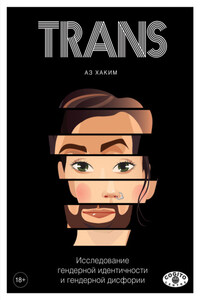Байронизм и процессы жанрообразования в русской литературе начала XIX в
Аннотация
На материале элегии Пушкина «Погасло дневное светило…» показано, что «наложение» байронизма на русскую поэзию начала ХІХ в. приводит к их взаимодействию: элегическая система перестраивается – воспоминание предстает как род плена; байронический мотив тоже трансформируется – романтический порыв опустошается, превращаясь в стремление без надежды, бегство без освобождения. Для пушкинской поэзии такое взаимодействие оказывается творчески продуктивным – рождается новый, более сложный и противоречивый герой, который вскоре обретет развернутое воплощение в поэме «Кавказский пленник».
Ключевые слова: литературные влияния, байронизм, русская элегическая поэзия, элегический субъект, лирическая биография.
Kvashina L.P. Byronism and the Russian poetry of the beginning of the 19>th century
Summary. The study of Pushkin’s elegy «Pogaslo dnevnoe svetilo…» shows that the interaction of the Russian poetry with Byronism in the beginning of the 19>th century transformed them both: in the case of Russian elegiac system a reminiscence becomes a kind of captivity, and the romantic inspiration of Byronism turns into an aspiration without hope and an escape without liberation. For the Pushkin’s poetry this interaction appears to be very fruitful – a new hero, more complicated and dissonant, comes into the world – soon he will be embodied in the poem of «Kavkazskiy plennik».
Байронизм как сложный комплекс духовных, эстетических и личностных пересечений не сводится к вопросу о прямом влиянии байроновских текстов на творчество того или иного поэта. Эта проблема имеет более общий характер как по истокам, так и по творческим результатам. По словам В.Э. Вацуро, «духовная жизнь общества формируется по своим внутренним законам, и внешние воздействия не могут быть исходной точкой отсчета: они, как правило, не причина, а следствие. Не Шиллер породил «русское шиллерианство», а, напротив, «шиллерианство» – русского Шиллера: близость мироощущения создала предпосылки для его популярности»1. Именно такой «механизм» культурных взаимодействий был определяющим стимулом формирования байронизма как «события русского духа» (В. Иванов), а также как арсенала новых поэтических тем, художественных форм и приемов.
Вопрос о влиянии Байрона на южное творчество Пушкина, при том что накоплен огромный материал исследовательских наблюдений и созданы фундаментальные труды, до сих пор сохраняет дискуссионный характер, а почти двухсотлетняя его история представляет широкую амплитуду колебаний различных, порой взаимоисключающих, мнений: от абсолютизации до формализации или даже нивелировки байроновского влияния. Это обусловлено прежде всего внутренними причинами, самим характером творческих отношений Пушкин – Байрон. С одной стороны, имеются прямые свидетельства современников и самопризнания Пушкина о безусловном воздействии на него английского романтика («с ума сходил от Байрона»), с другой – и это было очевидно уже для ближайшей критики – глубинное типологическое различие двух творческих индивидуальностей («трудно найти поэтов, более противоположных по натуре» (В. Белинский). Пушкинское «ученичество» – явление действительно неординарное, поскольку процесс освоения органически совмещался в нем с творческим преодолением важнейших установок и художественных принципов «учителя».
Что касается жанрового аспекта проблемы, то с байроновским влиянием традиционно связывают формирование в русской поэзии жанра романтической поэмы. Впрочем, ситуация и здесь не выглядит однозначной: изучение отечественного контекста убедительно указывает на внутренние возможности и стимулы для становления поэмы нового типа – речь идет прежде всего о традиции описательной поэмы и, конечно, о жанре элегии.
К 20-м годам XIX в. элегия потенциально была, так сказать, «чревата» большой формой: элегический субъект «нуждался» в геройной объективации и в событийном развертывании уже сложившейся в недрах жанра лирической биографии. Этот потенциал, как считают исследователи, и был реализован в творчестве Пушкина.
По словам Б. Томашевского, «южные поэмы Пушкина представляют собой монументальные элегии, инсценированные в речах и раздумьях героев и развернутые на фоне лирических описаний природы и «экзотической» местности, в которой развертывается скудное действие»2. Данное суждение можно было бы принять в качестве жанровой формулы пушкинского лироэпоса, если бы, при всей его выразительности, оно не было слишком общим, т.е. отражающим все же более тенденцию, чем факт реального ее воплощения, – может быть, именно поэтому в таком категорическом виде в более поздних работах ученого этот тезис не повторялся.
Эстетическая значимость элегических форм и приемов включала в себя высокую степень мировоззренческой репрезентативности. Жанр элегии (в том виде, как он утвердился в поэзии начала века) представительствовал вполне определенный тип мироотношения – преромантический комплекс философских, моральных и эстетических ценностей – и был достаточно консервативным, мало расположенным к радикальным новациям. Элегический язык, по определению Л.Я. Гинзбург, представляет собой систему «штампов», «принципиальных и изначальных». Но на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны: насколько органична для романтической тематики мировоззренчески насыщенная элегическая топика?
Итак, в русской поэзии начала века именно жанр элегии представлял разработанный язык «чувства и страсти», в то же время эта поэтическая система была достаточно замкнутой и непластичной. Важно поэтому не только констатировать связь новых поэтических форм с элегией, но, учитывая указанные особенности, попытаться понять характер и динамику их отношений. Опыт изучения южного творчества Пушкина свидетельствует о наличии здесь реальной проблемы: акцентирование байронизма в работах исследователей приводит к существенному ослаблению конструктивной роли элегической традиции, превращая «элегический язык» в средство для решения новых творческих задач; в свою очередь, повышенное внимание к элегической поэтике способно девальвировать байронизм – в этом случае параллели и пересечения сводятся фактически к типологическому подобию. Яркий тому пример – элегия «Погасло дневное светило…».
Первая южная элегия Пушкина традиционно воспринималась в байроновском ключе. Этому способствовали созданный самим поэтом ореол поэтической легенды (написана ночью, на корабле), новый для русской поэзии тип разочарованного, мятущегося героя, а также прямое авторское указание, помета в оглавлении пушкинского сборника 1826 г. – «подражание Байрону».