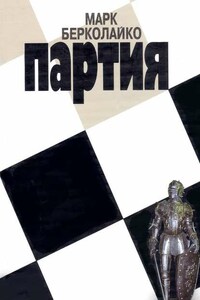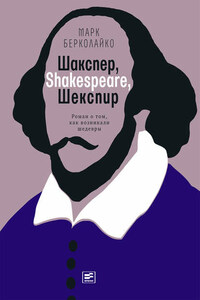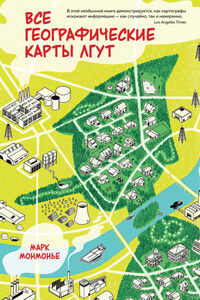Я не ручаюсь за точность описаний событий, фактов, улиц, домов, игры цвета и смесей звуков и запахов; не ручаюсь за точность дат.
Ручаюсь лишь за то, что здесь нет ни одного выдуманного персонажа.
Я стал часто видеть их во сне…
На гульбе в честь своего семидесятилетия дед сдавил переднюю ножку тяжеленного стула и поднял его с пола на вытянутой руке. Плечо бывшего молотобойца сработало играючи, только крупная кисть, вцепившаяся в изогнутое основание ножки, побелела, выделив лиловый орнамент переполненных вен.
Повторить это смог только огромный, шумный дядя Коля, Коля Рябинкин, муж маминой сестры, тети Шевы. И то, пришлось ему покряхтеть, и очки соскользнули с крупного носа, и дышал он потом прерывисто и тяжело. А отдышавшись, завопил:
– Ну, Григорий Яковлевич, ну вы – мужчина! Уважаю!
А совсем немного лет спустя дед умер. Умирал тяжело, в бесчеловечной бакинской июльской жаре, и машины, проезжавшие мимо невысоко поднимавшихся над тротуаром окон, чмокали шинами, отлипавшими при каждом обороте от вязкого, жирного асфальта…
Впечатление, будто весь Баку пропах нефтью, возникало нечасто. Только осенью или ранней весной, когда ветры дули от Черного города, расстилались дымы нефтеперегонных заводов, и повсюду висел дух воистину тяжелой индустрии. Он въедался в плоть бакинского люда и заталкивал в его задыхающиеся легкие угар ударных темпов пятилеток.
Но когда летними вечерами, смягчая жару, от бухты дула благословенная «моряна», то к ароматам моря, к дымкам прибрежных шашлычных и чайхан едва примешивался запах мазутных пятен, напоминая, что и в основе духов, в основе томительной сладости «Красной Москвы» лежат высокие фракции все той же бакинской нефти.
Однако по зажатой между холмами улице Искровской, по этой узкой горловине, лишь последними своими метрами взбегавшей наверх, к Кемерчи-базару, «моряна» никогда не пролетала. И асфальт размякал, и прижимался в торопливых засосах к вечно спешащим шинам, и источал резкий запах неутоленного подросткового влечения.
Много позже, когда экраны наших телевизоров стало пучить от быстрой голливудской стряпни, услышал я в тишине ночной квартиры такие же торопливые чмоканья поцелуев, символизирующие волну страсти, накатившую на героев и героинь. И было это смешным и немного тошнотным, хотя тем летом схожие звуки будоражили воображение, отвлекая слух от частого поверхностного дыхания умирающего деда…
Иногда дыхание чуть успокаивалось, и дед звал в полузабытье бабушку – на древнееврейском, на идиш, на итальянском – но она не подходила. Коротко, мимолетно приходя в себя, он уже по-русски просил дочерей, мою мать или тетю Шеву, обтереть его губкой, пропитанной горячей водой, но пока воду согревали на электроплитке или керогазе, дед опять уходил в свой многоязычный полубред… а бабушка роняла спокойно и веско: «Нечего суетиться! Скончается – тогда обмоем!»
Она сполна мстила его распадающемуся телу за те часы, когда оно, еще горячее и сильное, щедро делилось своей витальностью с той, с другой, с гойкой, шиксой, парвеню, выскочкой, разлучницей. Впрочем, и разлучнице мстила, не разрешив проститься с дедом ни при последних всполохах его уходящей жизни, ни потом, когда он лежал настороженно-задумчивый, словно прислушиваясь к еще незнакомой речи инобытия, ничуть не схожей ни с одним из семи языков, с которыми был на «ты»…
Я никогда эту женщину не видел, не знаю даже, как ее звали, поэтому представляю такой, к какой тянулся бы сам, когда б мне стала совсем уже чужой библейская бабушкина красота: невысокой, курносенькой, с крепеньким крестьянским телом, суетящейся вокруг наконец-то пришедшего деда. А ждала еще с утра, с неуверенного предутреннего просветления. Крутилась на постели, сохранившей его запахи, их запахи, запахи вырванного у ежедневных хлопот часа, когда детей отправляли поиграть во дворе, но надо спешить – ведь того и гляди стукнут в дверь: то ли дети… пописать им, видите, срочно захотелось, то ли соседка за луковицей… завтра, мол, отдам. Да пропади ж ты пропадом со своим «завтра»! Возьмет он, да и не придет завтра… мало ли, вдруг разлюбит… или жена не отпустит, найдет, чем занять. И не будет никакого «завтра», и не придет он больше, и ничего больше не будет…
Но он приходил. Каждым будним вечером, сорок с лишним лет…
Наверняка сорок с лишним, ведь я отчетливо помню, как незадолго до выноса к гробу подошла женщина этого примерно возраста. Она держала за руку испуганно зыркавшего по сторонам мальчишку, потом притянула его, поставила перед собой так, чтобы он мог видеть мраморно-синеватое лицо, и сказала негромко: «Не вертись и попрощайся с дедушкой». Сказала негромко, но некоторые услышали. Она это поняла, прижала к себе сына и чуть угрожающе вскинула голову, по-славянски ладно круглую, но дедовой лепки – с невысоким лбом, тяжелым, нависающим над шеей и плечами затылком и невероятно густыми волосами, чуть по тогдашней моде тронутыми хной. Мальчишка, так и не уверовав в то, что это застывшее в гробу нечто – и есть дедушка, вскоре отвел глаза от лица и с почтительным интересом загляделся на поблескивающий на дальнем от него лацкане пиджака орден Ленина. А женщина стояла все так же напряженно, готовая отразить любое посягательство на их право прощания, но никто не посягал, готовились к выносу, оживленно перешептывались: открепить ли орден и понести его перед гробом или оставить так. Решили оставить, а открепить уже на кладбище…
Поразительно, сколько суеты всегда на похоронах и поминках – какое уж там, к черту, таинство смерти! Говорят, что это помогает близким пережить ужас потери… не знаю… Скорее помогает делать вид, что неутомимый косарь лишь ненароком забрел на наши луга, и не про нас, занятых столь важными заботами – что, например, делать с орденом или сколько пожарить котлет, – не про нас его то мерная, то разудалая косьба…
Заговорили, что пора отпевать. Коммунисты вышли во двор, вроде бы покурить, а кантор, неопределенного возраста худощавый человечек, запрокинул голову, вслушиваясь в затихающий звук камертона, потом сконцентрировал в кадыкастой шее вдохновенную скорбь и затянул, наконец, поминальный кадиш. Но недаром говорят, что нельзя выводить на сцену детей – их естественность губит любые режиссерские задумки.
Мальчишка, изо всех сил приподнимаясь на цыпочках, так заинтересованно тянулся к ордену, что и кантор стал невольно глядеть туда же, словно уже не Богу, а лобастому вождю адресовал экстаз и смирение тысячелетних слов.