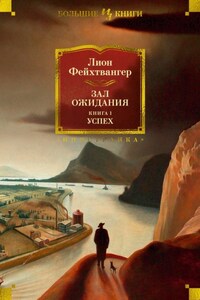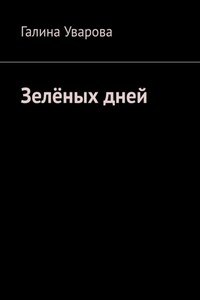В этот день – шестого марта – прохожие долго провожали глазами носилки сенатора Варрона, направлявшегося во дворец губернатора Сирии, императорской римской провинции. Два дня тому назад, когда новому губернатору Цейонию были торжественно вручены знаки его достоинства – топоры и связки прутьев, все заметили, что сенатор Варрон, самый могущественный человек в провинции, не присутствовал на церемонии. И теперь, когда он отправился с запоздалым визитом к губернатору, вся Антиохия толковала о том, как уживется Варрон с новым сановником.
Весна была ясная, довольно прохладная, с гор дул свежий ветер. Носилки повернули на длинную нарядную улицу – главную улицу города. Сенатор Варрон с легкой улыбкой на полных губах отметил опытным глазом, что перед многими правительственными зданиями и богатыми лавками усердствующие чиновники и горожане уже выставили бюсты нового губернатора. Он оглядывал эти бюсты из своих быстро проплывавших носилок. На судорожно вывернутых плечах сидела маленькая, сухая, костлявая голова. Сколько же лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел эту голову во плоти? Двенадцать, нет, тринадцать. Тогда он полон был снисходительного презрения к этой физиономии. Тогда у него, Варрона, было место под солнцем. Император Нерон баловал его, а этот Цейоний, который не сумел стать другом императора, несмотря на свой высокий род и пышный титул, не пользовался влиянием и пребывал в постоянном страхе, как бы каприз императора не отшвырнул его прочь. Теперь гениальный Нерон гниет в земле. Его место на Палатине занял император Тит, узколобые чиновники и военные правят империей, а плюгавенький, всеми презираемый Цейоний лихо шагает по пути карьеры, предначертанной ему с рождения. Теперь Цейоний – губернатор, наместник императора, он правит богатой и мощной провинцией Сирией, где сам Варрон живет на положении частного лица. Частного лица, ибо его давно уже исключили из сенатских списков, и если люди вокруг него кричат: «Да здравствует сенатор Варрон, сиятельный муж!» – так это простая вежливость.
Тем не менее, разглядывая бюсты нового губернатора, Варрон и теперь испытывал то же легкое снисходительное пренебрежение, какое он чувствовал к своему ровеснику Цейонию еще в детстве. Луций Цейоний происходил из богатого древнего рода и не лишен был способностей. Но старая глупая история запятнала честь его рода. Один из Цейониев, прадед Луция, семьдесят один год тому назад в битве против некоего Арминия одним из первых бросил оружие, и у Луция с юности было такое чувство, точно именно на нем лежит долг смыть это пятно со своего родового имени. Худосочный, бескровный мальчик уже в десять-двенадцать лет силился придать своему лицу и осанке важность и достоинство и, несмотря на хилость, с судорожной заносчивостью пыжился перед товарищами. Но это вымученное молодечество лишь навлекало на него особенно злорадные насмешки. Какое это прозвище они дали ему в школе? Сенатор Варрон сдвинул брови, напрягая память, но слово никак не приходило на ум.
Не так уж просто будет встретиться с милейшим Цейонием после долгих лет, да еще в столь изменившейся обстановке. Отношения Варрона с правительством провинции Сирии были чрезвычайно сложны. В губернаторском дворце римлянина Варрона издавна считали опаснейшим противником нынешнего римского режима в Сирии. Как еще все сложится при Цейонии, который, разумеется, не забыл прежнего жалостливого и вместе с тем враждебного презрения Варрона.
– Да здравствует сенатор Варрон, сиятельный муж! – раздавалось со всех сторон. Варрон велел пошире раздвинуть занавески носилок и выпрямился, чтобы его мясистое загорелое лицо, с высоким лбом, крупным орлиным носом и полными губами, было лучше видно толпе. Он упивался всеобщим поклонением. Он чувствовал себя выше императорского наместника. Добиться признания здесь, в Антиохии, – это побольше, чем стать любимцем в Риме на Палатине. В нынешнем Риме, в Риме Флавиев, Тита, нужны деньги и знатность рода, ничего больше. Здесь, в Антиохии, с ее недоверчивым и возбудимым народом, в котором смешались греки, сирийцы, евреи, – надо было постоянно утверждать себя делами, личными качествами, снова и снова завоевывать доверие непостоянной толпы. Этот Восток был опасен, именно поэтому любил его Варрон. Он добился своего – завоевал признание в Сирии. Теперь он может противостоять наместнику императора как сила весьма реальная, хотя и не опирающаяся на договоры и привилегии.
Вот и дворец губернатора. В вестибюле между знаками консульского достоинства и связками прутьев – символами власти нового правителя – уже выставлены были ларцы с восковыми изображениями его предков; одно из них, изображение прадеда, осрамившего род, было прикрыто. Губернатор Цейоний, по-видимому, не посмел отплатить Варрону за то, что тот не присутствовал на церемонии вступления в должность. Он сам вышел в переполненный людьми зал. На глазах у всех обнял он и облобызал Варрона; маленький, тщедушный человечек выглядел немного смешно, когда повис на шее представительного сенатора; все слышали, как губернатор тонким скрипучим голосом сказал, что рад видеть товарища своей юности столь цветущим. Затем с приветливым видом пригласил Варрона к себе в кабинет.
Они уселись друг против друга. Губернатор Цейоний, щуплый, маленький, держался очень прямо в широком восточном кресле, занимая лишь половину сиденья, скреб ногтями одной руки ладонь другой и вежливо-испытующе смотрел на Варрона.
«В этой вшивой Антиохии, – думал он, – старину Варрона, по-видимому, еще считают важной особой. Но что он такое? Бывший человек. Отщепенец. В Риме о нем и думать забыли. Когда называют его имя, римляне смутно припоминают: „А, Варрон, это не тот ли, которого император Веспасиан после какого-то скандала вычеркнул из сенатских списков? Он, говорят, нажил много денег в Сирии“. Деньги-то он нажил и, по имеющимся данным, пользуется влиянием у власть имущих по ту сторону границы. Но велика ли честь? Какое падение для римлянина, который некогда сидел в сенате, – слоняться по игрушечным дворам этих туземных вождей, этих жрецов и шейхов, с их жалкими царскими титулами. Ну, да мы уж и там о нем порадеем! Мой предшественник был рохля, иначе этот авантюрист Варрон не уселся бы здесь передо мною так нагло».