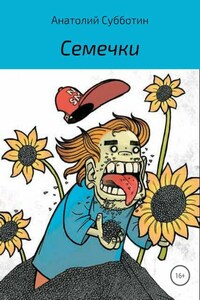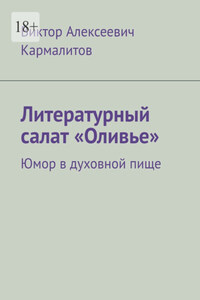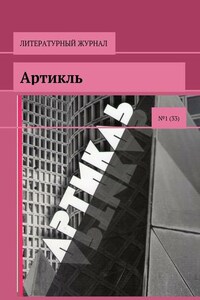Старики жили у реки. Речка была не фонтан, так себе – ручеёк, который, впрочем, весной поправлялся и затоплял стариковский огород, благо берега пологие. Мутная вода подходила к дому и пристройкам, стоящим чуть выше, но на большее её силёнок не хватало.
Где-то с середины апреля по ноябрь старика можно было видеть сидящим у палисадника на скамейке и курящим самокрутку. Холод и снег загоняли старика в дом. Но в доме его ожидал другой холод: бранилась сноха, и курильщику приходилось перетаптываться в сенцах. Казалось, без затяжки дымом он протянет ещё меньше, чем без глотка воды. Для него это означало «дышать». Названий сигарет он не помнил или никогда не знал. Не знал он и самого слова «сигареты». «Папирёсы» – и всё тут! Табак он различал лишь по крепости. Чем крепче, тем лучше. К тому же самое злое, едкое зелье стоило дёшево, и здесь интересы старика совпадали с интересами государства. А поскольку эта дешёвка производилась в родном отечестве, то можно со всей ответственностью заявить, что старик был БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ патриотом.
В разлёте от 10 до 17 копеек родина предлагала ему выбирать между «Берёзкой», «Ланью», «Дымком», «Камой» и «Севером». Наиболее доступной была «Кама». Но родина, предлагая, не учла, что старик не знает названий сигарет, и на вкус ему тоже всё равно – что «Лань» что «Берёзка». Да и монеты старик не различал, то есть он их видел, но значение цифр оставалось для него тёмным. Если учесть, что он всю жизнь проработал бухгалтером, это может показаться странным, невероятным. Но, возможно, усталый мозг отторгает прежде всего то, что послужило основной причиной усталости, в данном случае – цифры.
Была ещё причина, по которой старик не мог купить себе сигарет. Он давно уже не отходил от дома дальше, чем на 3 шага. Однажды он заблудился, возвращаясь как раз из магазина, и неприятные ощущения, пережитые им, навсегда отбили у него охоту терять, выражаясь по-военному, ориентиры из виду.
Так что родина, предлагая выбирать, не учла многое. И выбирал не старик, а старуха, которая давно уже выбрала, и старик в последние годы пользовал в основном махру-махорку, 6 копеек упаковка. Выходит, он был не только бессознательным, но и МАХРОвым патриотом. Впрочем, ему было всё равно. Курево есть, и задиристое! Чего ещё? Да и с газетами по их, так сказать, косвенному назначению стало попроще. Прошли те времена, когда за раскурку растиражированного портрета вождя ставили в угол. Теперь хоть задницу вождём подотри – получишь, в крайнем случае, выговор с занесением в личное дело.
Круглый год старик ходил в валенках, в грязных, с жирными от еды пятнами, спецовочных штанах. Седые волосы и борода его на первый снег были похожи мало, а усы и совсем были жёлтыми.
Раза три в день старик, бросив окурок, кричал: «Старуха, ись давай!» Старуха ворчала и, немного повозившись на кухне, выталкивала с натугой сердитые слова: «Иди сопи!» За столом старик действительно сопел: ел жадно и громко, не ощущая, что похлёбка прокисла и он принимает яд. Пища выплёскивалась из дрожащей ложки, вываливалась из беззубого рта. За окном цвела черёмуха. Или (всё равно) шёл снег. Круглый год летали белые мухи.
Старуха страдала одышкой. Она была не столько толстой, сколько раздутой. Она говорила, что у неё водянка. Внучек, понимавший болезнь буквально, удивлялся, зачем ещё старуха пьёт, когда в ней и без того излишки воды и ей надо лечиться жаждой. Он мечтал поскорее вырасти, заработать денег и отвезти бабушку на пески, в какую-нибудь пустыню, где она бы, полежав на солнцепёке и высохнув, как мумия, сделалась здоровой и бессмертной. Пока же ему приходилось применять ДОМОРОЩЕННЫЙ метод лечения. И старуха каждый день возмущалась: «Где же кружка?! Куда она опять запропастилась?»
Старик тоже пил молоко. Но не теперь, а прежде, и не простое, а от ДУРНОЙ коровы. Напившись, он часто старуху поколачивал. Во всяком случае, та часто, к месту – не к месту, упоминала об этом и в подтверждение своих слов показывала себе на лоб, где красовался заметный шрам. «Это старик меня бутылкой угостил! – говорила она и, входя в роль, хныкала: – Всю жизнь только и видела от него, что тычки да тумаки!» Она имела от него шестерых детей. Точнее, родились восемь, но двое умерли, ещё не успев понять, куда они попали. Старуха ненавидела старика и желала, чтобы он скорее сдох. Старик был уже не способен и на ненависть. Ему было всё равно. Иногда по привычке он ещё пытался пустить в ход кулаки, но старуха уворачивалась. Ударить же в ответ она не решалась, потому что побаивалась. По привычке.
Зато «доставал» старика внучек. Он плевал в него сквозь трубку косточками черёмухи или сухим горохом. Он бросал ему под ноги «бомбочки» (смесь магния и марганца), от взрыва которых дрожали в доме стёкла. Да что там! Страшно вымолвить: он пинал старика под зад. И мёртвый бы из себя вышел! И старик выходил, то есть пускался на неразгибающихся сухих ножках, с кашлем «Етит твою мать!» за обормотом в погоню, но, разумеется, не догонял.
И вообще, он был настолько плох (или хорош), что путал своих детей. Как-то в гости приехал сын Михаил. Старика подтолкнули: ты что, мол, не видишь? Смотри, кто приехал! Старик присмотрелся, что-то припомнил, широко раскрыл дрожащую улыбку и назвал Михаила именем другого своего сына.
С некоторых пор старику стало казаться, что речка с каждым годом, днём, часом мелеет. Того и гляди совсем пересохнет! Старик боялся этого, поскольку течение воды (ему казалось) было вместе с тем и течением его крови. «Куда она девается?» – думал он про воду-кровь и бросал подозрительные взгляды на раздутый старухин живот. Неизвестно, какие действия со стороны старика последовали бы за его подозрениями, так как он вскоре умер. Возможно, последним предсмертным сном его был следующий.
Он проснулся чуть свет. Ему было дурно. В углу на коленях стоял его сын, с которым он жил. Сын, как в рупор, кричал в помойное ведро. Старику не нужно было помойного ведра, чтобы освободиться от дурноты. Ему не хватало кислорода, не хватало крови, которая разнесла бы кислород по телу. Он зашаркал на кухню и взял там свинорез. Старуха спала без задних ног, без задних мыслей. Живот её оказался слишком мягким, слишком рыхлым. Старик не рассчитал удар, и свинорез вошёл вместе с рукояткой и сжимающей её кистью руки. Речка с шумом вырвалась на волю. Целеустремлённо, не растекаясь, она соскочила с русской печи, где лежала старуха, взобралась по стене на подоконник и выдавила стекло. За огородом (уходим огородами!) её ждало высохшее русло. Старик ощутил необычайное облегчение. Сын, которому, видимо, тоже полегчало, подошёл к нему и, улыбаясь, спросил: