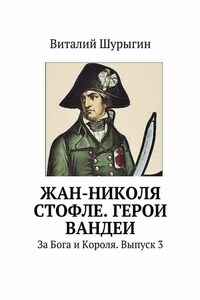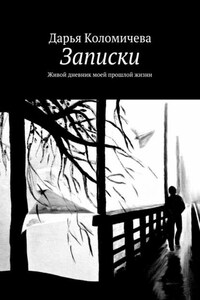Мне надо было удивить Париж. Точнее, пару парижан. Моего приятеля и компаньона, с которым мы тогда занимались бизнесом на французской одежде, и его дочь. А чем я мог их удивить в середине бедных, страшных и веселых 90-х? Что у меня было, чего у них не было?
Я вспомнил, как один бывший спортивный чиновник, много разъезжавший по зарубежью еще в советские времена, рассказывал мне, как в глухие 70-е продавал по ночам черную икру в нью-йоркские рестораны по три тысячи долларов за килограмм, и подумал, что лучше икры ничего не придумаю. Тем более, что за последний год несколько раз был в Париже и знал, что икру там днем с огнем не сыщешь.
По-моему, я купил ее в duty-free в аэропорту, а может, как-то протащил, уже не помню. Надеюсь, теперь меня за это не расстреляют. А если расстреляют, то потом не повесят. Помню, что икры было две банки, и, когда приехал, я эти банки выложил на стол, чувствуя себя как непрошенный и нежданный родственник из глухой провинции, который привез ненужные, как и он сам, подгнившие в дороге фрукты-овощи.
Однако я попал в яблочко, по крайней мере, с отцом. У Эжена глаза загорелись алчным огнем, а Женни скривила идеально очерченные полные и очень взрослые губы и сказала…
Я не знаю, как я понял, что она сказала, так как французского не знал ни тогда, ни сейчас. Правда, научился неплохо понимать во время своих поездок, но тут я не расшифровывал никаких корней, я просто нутром почувствовал значение сказанных слов – по интонации, хлесткой, как звук выстрела или удар кнута, и абсолютно недетской. Эжен смутился и осторожно спросил меня по-английски:
– Ты понял, что она сказала?
– Что этой икрой вы отметите мой отъезд?
– Да, извини. Ей скоро двенадцать, подростковый возраст, ты понимаешь. Она и со мной так разговаривает.
Из самых лучших побуждений он безбожно врал: с ним она так не разговаривала. Но меня это не слишком волновало. Я понял, что лучше мне будет здесь особо не задерживаться, а пока уходить из дома пораньше, а приходить попозже. Так как это и так соответствовало моим планам, то я не очень огорчился. Сидеть в Париже дома с приятелем и его задиристой дочкой-подростком казалось мне верхом идиотизма.
Я тогда догуливал свою молодость. Точнее, гулял ее, когда она уже прошла. Настоящая молодость была почти полностью истрачена на большие и пустые любови к девушкам, которые не стоили не то что любви, а даже подходов к себе. Правда, все были на редкость красивы, и я тогда не без туповатой гордости думал, что хоть в чем-то обставил всех своих однокашников. Если не количественно, так качественно.
В те давние годы мне было чуть за тридцать, в чем я никак не мог признаться даже себе, а тем более другим, и говорил, что мне двадцать семь. И надо было внимательно следить за тем, чтобы не сказать это тем, кто меня знал в двадцать восемь и в двадцать девять, потому что эти цифры, когда они были актуальны, меня не пугали, и я тогда честно говорил, сколько мне лет, а в тридцать мне стало двадцать семь, и уже какое-то время мой возраст не менялся. Бывают в жизни и такие чудеса. Ну, как у одной героини Лермонтова из «Княгини Лиговской», которой лет семь подряд было то ли семнадцать, то ли восемнадцать или что-то в этом роде.
Эжен и Женни, кстати, знали, сколько мне, но понятно, что меня это не волновало. Они к моей стремительно убегающей молодости не имели ни малейшего отношения.
С Эженом мы познакомились, когда мне было двадцать шесть и, соответственно, мне еще нечего было скрывать, тем более, что в этом относительно юном возрасте я был заместителем директора не самого мелкого СП, которых тогда в Москве развелось, как тараканов. Как я им оказался – это отдельная малоинтересная история. Если вкратце, то я сам это называл тогда попыткой стать генералом вражеской армии, и вовсе не для того, чтобы потом с ней напасть на армию собственную и разгромить ее. Ровно наоборот. Родную армию я хотел таким образом обезопасить. А если попроще – то я полагал, что только бизнес даст мне необходимую независимость от всего и от всех, которая с самого детства была моей главной целью.
Наверное, это у нас с Эженом, который со своей внешностью влюбленного в детей учителя младших классов в мире бизнеса смотрелся несколько странно, было общее, и не случайно у нас с ним обнаружился еще и общий интерес к искусству, с чего, собственно, и началась наша дружба, и здесь мне удалось поразить его целых два раза. Сначала знанием коллекции Лувра, а потом тем, что при этом я там никогда не был. Мы сидели в кафе в большом московском отеле, на реконструкцию которого наше СП и пыталось получить подряд. Когда я сказал ему, что никогда не был не то что в Лувре, а даже в Париже и во всей Франции, Эжен был просто в шоке. Сидел, смотрел на меня и хлопал глазами. «Но этого не может быть! – все повторял он. – Не может быть! Ты говоришь о Лувре так, как будто исходил его вдоль и поперек!»
В ответ я рассказал ему историю о каком-то шпионе, уже даже не помню чьем, который по своей легенде происходил из деревни в глубокой провинции той страны, куда его заслали. Так вот, он знал все о каждом доме и каждом проживавшем там человеке, при том что сам там никогда не был.
На Эжена это не произвело никакого впечатления. «Это не то, это профессиональная подготовка, – сказал он, – ты же ничего этого не учил специально».
Нынешние поколения этого не поймут, а в своем я был совсем не уникален. Мы изучали и обожали Европу издали, даже не надеясь когда-либо туда попасть. Внутренний мир во многом заменял нам находившийся под запретом внешний, если он выходил за пределы нашей чудесной родины. У меня тогда было много знакомых со знаниями в области искусства, далеко превосходившими мои собственные. Правда, они все были намного старше меня и гораздо дольше ездили по миру, который весь был внутри их умных и одиноких голов.
Через полгода я перестал быть заместителем директора СП, потому что мне было противно вместе с моими коллегами отечественного производства, сплошь бывшими комсомольскими работниками, обкрадывать наших западных компаньонов, в том числе и Эжена, который первым понял, что не туда влез. К сожалению, это его не спасло. Как это часто бывает, он вылез из одной авантюры только для того, чтобы влезть в другую. Через несколько лет он во что-то еще более неудачно вложил деньги и разорился в дым, а теперь, в том числе и с моей помощью, пытался хоть что-то вернуть.
Однако еще в пору его благополучия я успел съездить к нему в огромный, построенный по замысловатому японскому проекту дом на берегу озера. В тот приезд я и познакомился с Женни. Ей было тогда восемь, и она сочла меня веселой живой игрушкой, с которой и проиграла все время, что я был дома, и я в упор не понимал, почему она так изменила ко мне отношение сейчас. Ну, изменила – и изменила. Какое дело может быть взрослому здоровому мужику, догуливающему молодость, до отношения к нему маленькой девочки? Вот мне и не было.