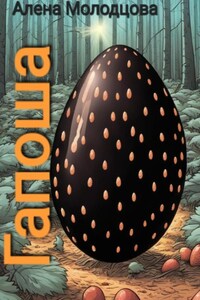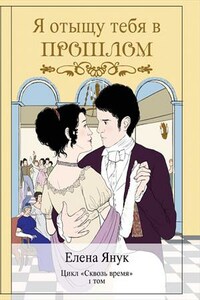Материк север, где делают стеклянных людей
Он стоит перед окном и слушает воздух. На камне сидит птица. Она смотрит куда-то в сторону моря, где огромный корабль тянет за собой кожицу воды и домики такие маленькие по сравнению с этой искусственной морщиной. Гилберт отворяет задвижку и спускается вниз. Это отель, в котором можно выходить из окна. Он сидит, опираясь спиной о траву, и смотрит, как туман забирается в открытые лица домов. Вскоре город исчезает, а вместо него остаётся дым, белый пронзительный дым, от которого Гилберту хочется рыдать. Он открывает рот и издаёт звук, похожий на растительную отрыжку. Слёзы никак не текут. Они мгновенно испаряются, даже не выходя из глаз; может быть, туман – это и есть чей-то неспешный испаряющийся плач?
Боль испарится, страдание испарится, а что если и весь человек… Он ищет над своей головой. Какой-то испаритель, провода атмосферных машин, он ищет где-то над головой, а там – полушария птиц, и птицы летают, разбрасывая себя выкриками и собирая себя выкриками. Он знает, что никогда не сможет этого позабыть, и белое плотное воспоминание формируется в его памяти: когда он решил исчезнуть, приехав на крошечный материк, не отмеченный на множестве карт. Когда он решил испариться, и может быть, приборы никакие и не нужны.
Гилберт поглаживает созерцательных овец, встаёт и движется, раскинув руки, как человеческий самолёт. Он видит перед собой белую тучу, и это туча, которая копит пустоту, сжимает её в некую видимость и заменяет этим данные объекты. И Гилберт представляет, как украденные объекты работают самими собой в какой-нибудь соседней реальности: рыбы работают рыбами, овцы работают овцами, появляются города, и люди ахают: города же не было, но, может быть, никто не удивлён, и всё воспринимают как есть.
Туча, в которой обрывается смысл северной красоты. Вот бы ему оборваться вместе с ним… Гилберт идёт в глубину тумана. Он должен исчезнуть. Он должен исчезнуть. Ради всех тех людей, которые никогда его не знали, которые не были здесь, ради будущего, он должен…
Кажется, туман отзывается на это намерение.
– Хочешь, я буду любить тебя? – спрашивает Гилберт.
– Да, – отвечает он сам себе. – Я буду любить тебя. Я буду всегда тебя замечать. Только ответь, что это за слово, которое застряло в моей голове? Бреннур, бреннур – откуда это слово? Что оно может обозначать? Я узнаю, и ты заберешь меня. Но только когда я узнаю…
Так он говорит, и кажется, новые силы. Море умирает, и туман – это душа, которая отлетает каждый раз, когда умирает море. Он стоит в глубине этой души, и странное желание: ему хочется пить, прямо из души, или пить эту душу, и он втягивает в себя туман через рот, он нюхает его, крутит по руке. Ему кажется, что он почувствовал значение тайного слова, ему кажется, что кто-то сказал, и теперь он готов. Теперь он готов.
Раскручивается и шепчет: покончи со мной, сделай это, давай. Ему неописуемо весело. Он хочет испариться и встал в середине тумана, который должен его поглотить. Губы хихикают. Руки изображают самолёт. Что-нибудь сейчас произойдёт. Гилберт выпускает шаги и движется по взлётной полосе в сторону погибшего моря, руки продолжают взлетать, губы съедают улыбку, человек разбегается и входит головой в самую смерть. Раздается оглушительный звон, и Гилберт смеётся: вот я разбился, вот я разбился. А вот и я.
* * *
Это был именно материк. Где-то существовали духовные пространства, но это был именно материк. Жители осваивали какое-нибудь ремесло и развивали его в течение жизни; тут было множество рыбаков, пастухи, вязальщицы, работники упаковочных предприятий, специалисты по леске, и можно было обнюхивать их в поисках загнивших рутин, но запах не шёл: люди любили свои жизни и эти гербы повседневности, они носили их – каждый на своём доме, вывешивали как гордость. Это не то, что на некоторых островах: люди производили центр, а на окраине лежали тонны убитого труда – здесь было всё равномерно. Люди работали и жили свою жизнь, такого вопроса не возникало: как я могу жить свою жизнь? Как это мне осуществить? Люди просто умели и всё.
Здесь был бессменный туман. Туман, как мысль о тумане, воздух, вязанный из небесной шерсти, и повсюду лежала эта овечность, вечность, люди, которые не желали кичиться, домашние вечера с каминами и фонарём. Материк – это было открытое, укрытое, тишина океана, контуры скал, и можно было обводить случайными птицами, бегло рифмующими побережье сиплыми голосами, – птицы, установленные на вершинах горы с изнаночной стороны утёсов, и любопытные овцы на публичных холмах, торчащие мехом по камням, – руно и еда. Говорили, что овец здесь больше, чем людей, и это были необычные овцы: каждое утро специально обученные люди развешивали их по горам, и животные созерцали в течение дня, вбирали глазами пейзажи, выращивая на себе мясо созерцательных овец, которое импортировали по высокой цене, и этим материк жил: развешиванием овец и созерцанием, которое входило в самую плоть.
Люди, которые развешивали овец по горам, с самого малого возраста учились оперному пению, в итоге каждый из них становился как певец-скалолаз. Утро жителей материка начиналось с красивого пения, которое доносилось с холмов: подвешивая овец, скалолазы пронзительно пели, и это делало их работу осмысленной. Всё старалось скопить в себе смысл: люди и овцы, горы и небо, и столько образовалось пейзажа – целый материк, и открытое время, невысмотренные дали, совершенно живые, растущие из чьего-то расширенного зрачка. Столько бесконечности на одного человека, но люди не давились, они жили из неё.
Небо, овца и красота – это то, что составляло национальную гордость. И всякие спицы – шерстяной вымысел. Красивые свитера – домашняя вязка, тёплые шали и накидка из тумана, одетая на каждого прохожего, и они наматывали её на головы и на плечи, носили туман как отличительный знак, а по туману носились овцы. Овцы, которые возили пейзаж на спине, люди, которые возили благодать, и в каждом разговоре присутствовало это отличие: материковые истории и длинные хороводы патриотизма, вплетённые в праздники, – хождение за руки под распевание древнейших слов.
Зиматы – это то, как они называли себя. Взятые из старотуманных саг, они находили себя особыми, и вот где они находили себя: под травяными крышами жилищ среди мимических пейзажей севера. Там, где покачивались на ветру библии домов, стояли деревянные маяки вместо деревьев, там, где женщины гадали по делам, забрасывая их в мешок головы, хлебокормы пропекали свои улыбки, гремя позвоночниками, – живые существа с радостью несли себя в новые дни.
Люди гадали по делам и гадали на судьбу: пятнышки на ногтях символизировали появление норн, как будто норны прошли и можно теперь толковать. Как жидкости были наполнены мельчайшими видами жизни, так и пространства были снабжены различными существами, которые спускались на органы чувств как малые клубки интуиций. Нечисть не была воздушным существом, но иногда и она возникала как нечистая совесть, и если кто-нибудь из людей делал что-то не так, на помощь приходил материк, и люди смотрели на себя со стороны – через большую материю, на которой сияли зеркала ангелов, и всегда можно определить, когда это были ангелы, а когда это была нечисть. И быдень, который старались разогнать, – говорили туда: