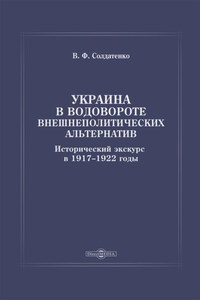© Яна Потапчева, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Города обрастают железом, стеклом, бетоном, багровеет сплетённое кружево крепких жил. В можжевеловых пустошах звали меня драконом, называл змеем лун состарившийся Бейджинг. Но смотри – как на флейте китайской, играет буря на моих сотни лет не ломающихся костях. Сотни лет в этом мире никак меня не забудут, так не вздумай и ты наконец позабыть меня. Под стальной красной шеей кипит азиатский ветер, со шипов моих острых вдали различим Тибет. Нет страшнее чудовищ, рождённых на этом свете, чем отступник, когда-либо равный по силе мне.
Выводите полки, выпускайте цветное знамя, не красив разве танец в пустом дребезжанье пуль? Придёт день, когда я никого из вас не оставлю – в такой день я не верю, и я его не люблю. Так не слышу ли хохот свой, лязгающий в грудине, механической, алой да прочной своей груди. Я закатное солнце над выстроенной пустыней, и пустыня лишь веха на долгом моём пути. Выводите полки, выпускайте огонь из пушек, вьётся гребнями дым над пылающей головой.
Опадёт от ударов последняя из чешуек, и тогда-то, возможно, и я обрету покой.
Расползаются ночью трещины по земле,
И змеится заросшая тиной река густая.
Отдавай, говорит, богу богово, моё – мне,
А не то от тебя ничего сейчас не оставлю.
Он не будет кричать, не достанет тяжелый кнут,
Не ударит рукой дрожащей по водной глади.
Его милая спит. До утра её не найдут,
И его не найдут даже сотни скреплённых братий.
Отдавай, говорит не услышанному никем,
И молчанью ответному нет ни конца ни края.
Его милая спит, его милая спит в реке,
И течёт её кровь, в ломких венах не остывая,
И в глазах отражается свет молодой луны,
Запах трав, волчий вой и вкус закалённой стали.
Его милая спит в объятиях глубины.
На рассвете их вместе даже искать не станут.
как придёшь ко мне злым, одичавшим, ослепшим волком,
то завоют клыкастые стаи за дальней сопкой.
про тебя позабывшие, чьи-то чужие стаи.
ты придёшь ко мне волком, оставленным и усталым.
под израненной лапой вздрогнет, скрипя, крыльцо.
волком зная дорогу, не вспомнишь моё лицо.
как вернёшься с охоты ловчей холёной птицей,
грозным клювом горбатым в дверь ко мне постучишься.
перекроют всё небо перья в размахе крыльев,
ночь утонет в рассветном бледно-медовом дыме.
узнавая рассвет спустя тысячу лунных дней,
вспомнишь ли охоту и кто жертвой был на ней?
как придёшь человеком, ты будешь сутулым, хмурым,
обо мне говорившим сквозь стиснутые зубы.
и тогда вспомнишь всё от первой до крайней встречи.
никому от того не станет ни капли легче.
поправляя повязку грязную на глазах,
подбредёшь к крыльцу.
Ноги врастали в каменную породу, стал позвоночник твёрдым хребтом горы. Кто из сестёр моих строил высокий город, рокотом братьев его же и сторожил. Кто собирал мерцание самоцветов, льющихся в наших жилах, из рудных нор. Таял туман на серых зубах рассвета. Мы были вечные – цепь неприступных гор. Горло моё впускало огонь и грохот, братья рычали, и сёстры рвались с земли. В небо взметался пепельный душный ворох, чтобы осесть на рваных руках моих. Реки бежали в каменной жёсткой коже, по перевалам – алый рябинный ток. До мелочей на сотни других похожая, наша легенда на следующий
шла
виток.
Братьям – деревни целые в разрушение, сёстрам – шипящих белых огней кольцо. Мне доставалась ты – неизменно прежняя, хоть на тебе было новое лицо. Я бы тебя успокоил и спел бы песню, но глотка горы умеет рычать, не петь. Наша легенда от сих и до сих размерена. Ветры ревут и бьются в грудную твердь.
Столько никак не вынести человеку, наш бесконечный рёв и гремящий бой.
Два мелких камешка молча кладу на веки, пряча тебя под грузной своей рукой.
Я слепил соловья из красной песчаной глины.
Здравствуй, то, что когда-то было моей любимой,
Здравствуй, радость моя, исчезнувшая опора,
Пустотелая птица с отлитым из меди горлом.
Соловьиный язык опаснее острой стали.
Говори-говори, но я слушать тебя не стану —
Как жила человеком, ослушаться был не в силах,
Исполняя послушно, о чём бы ты ни просила.
Как жила человеком, неслышно ушла к другому.
Здравствуй, радость моя с отлитым из меди горлом.
Превращённая в птицу, птицей и будь отныне,
То, что звал я когда-то хрипло своей любимой.
Что я звал, то исчезло, выбилось под рукою,
Закричало от страха в белом подлунном поле.
Здравствуй, красная птица, древнее моё слово,
Так не смей говорить со мной медной гортанью снова.
Третий год как молитвой стало чужое имя,
И четвертый как не думаешь обо мне.
Остается на дне болотистом Валентина,
Остается лежать на тёплом и вязком дне.
Над её головой темнеют трава и клюква,
Проседает земля у тинистых белых ног.
В новолетье плакучая ива устало рухнет,
Пересохнет к весне синеющий ручеек.
В волосах застревают веточки и соцветья,
Застревает брусника красная в волосах.
Наступило давно уже пятое новолетье,
Валентина на дне, и брусника опять красна.
Собирая в ладони горсти густого ила,
Превратилась в застывшие топи её река.
Хорошо, что молитвой стало чужое имя.
А моё же теперь постарайся не вспоминать
Где для набега хан созывает рать, где сарацины точат свои ножи, ты собираешься резать и убивать, жечь мой златоголовый Иерусалим. Где племена выгрызают друг другу плоть, люди готовят детей к затяжной войне, зверем ворвёшься в Трою и Вавилон и разнесёшь мой величественный Карфаген.
Так мы меняем лица и города: Константинополь, Акра, Истахр, Керак. Я неприглядна и вечно едва жива, ты – со следами старых забытых ран. Рубишь и бьёшь, насколько хватает сил, ищешь меня по рынкам и площадям, чтобы, когда падут Аскалон и Рим, душу отдать мою новым моим богам.
Я утеку из пальцев любых богов, тело слепив себе сотню-две лет спустя, где разрывает пустыню от взрывов бомб и ты продолжаешь, как прежде, искать меня. У наших историй – ни времени, ни границ, и наши судьбы тесно сплелись в одно под грохот бешено мчащихся колесниц и залпы пушек где-нибудь в Ватерлоо.
И если когда-то рухнет последний мир, у ног твоих лягут металл и простой песок и некому будет помнить про Тир и Рим, ты пустишь последнюю пулю себе в висок. Пока же я знаю, как хочешь меня найти, куда держишь путь и где тебя отыскать:
где сарацины точат свои ножи, где для набега хан созывает рать.
Льётся свет золотой со смуглых медовых щёк. Кто единожды предал, конечно, предаст ещё, кто почувствовал кровь, опять нанесет удар. Я не дам им опомниться, этого я не дам. Захлебнётся их смех, замолкнет надменный зов. Стану страшен и дик, не снилось, как буду зол. По щеке проползёт на смуглом белёсый шрам.
Не достоин любви, так верный посею страх.
Дрожат чёрные стаи, и чёрная сталь чиста. Не найдется белёсым шрамам на вас числа, не останется силы, способной умерить гнев. Все равно не пойдет никто на поклон ко мне. Я держу мир за горло, но позже возьмут меня – я хочу, чтобы ты осталась со мной, когда. Со щеки испещренной льётся свет золотой.