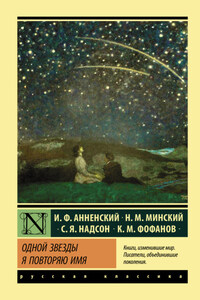Когнитейнмент социально-философской эстетики
«Метатеория развлечения» – шестая книга немецкого философа корейского происхождения Бён-Чхоль Хана, которая публикуется в рамках проекта «Лёд» на русском языке. В оригинале, то есть на немецком, текст вышел в 2017 году, а английский перевод появился уже в 2019-м. Должен признаться, что по просьбе руководства проекта «Лёд» я придумал новое название для книги. В принципе такая практика существует, и в ней нет особого интеллектуального криминала (в лучшем случае – ответственность за административное интеллектуальное нарушение). Да, она не всегда удачна, а в случае с философскими текстами иногда и вредна. Поэтому думать над новым заголовком пришлось долго. Но, по крайней мере по моему мнению, он лучше отражает дух и самую суть текста, чем оригинальное название. Просьба же руководства проекта «Лёд» была обусловлена элементарными причинами: оригинальный заголовок в русском переводе «Хорошее развлечение» отчасти сбил бы потенциальных читателей с толку, а подзаголовок «Деконструкция истории западной страсти» в лучшем случае ничего бы не прояснил, а в худшем – запутал бы еще больше. Развлечение в английском переводе ожидаемо передано как Entertainment, а именно от этого слова в русском языке происходят различные производные англицизмы – например, инфотейнмент или эдьютейнмент. Более того, эти слова употребляет и сам Хан. И хотя «развлечение» в измененном заголовке осталось, теперь оно подчинено слову «метатеория». В конце концов, нас – меня и проект «Лёд» – извиняет то обстоятельство, что это словосочетание использует сам Бён-Чхоль Хан в своей книге, посвящая данной теме самую последнюю и наиболее важную главу.
Теперь же – собственно, для этого и нужно предисловие – обратимся к словосочетанию «хорошее развлечение». На русском развлечение, о котором говорит философ, может быть и «благим». Хорошо же развлечение для Хана не потому, что оно хорошо развлекает, а потому что приобретает положительные (а не позитивные, поскольку позитивность для него, как мы помним из его предшествующих работ, это всегда плохо) черты. Развлечение плохо само по себе, но в каких-то случаях оно становится хорошим. В свою очередь, страсть – это что-то хорошее. Страсть противостоит развлечению, поскольку она, как правило, не развлекает, поскольку в ней есть что-то негативное, поскольку она ведет к страданию, создавая из субъекта homo doloris – человека страдающего (каковым, например, являюсь я, когда мне приходится писать предисловие к очередной книге Хана). Дух страсти, по идее, должен вызывать у человека презрение к развлечению. Однако мысль Хана как всегда парадоксальна, а точнее в ней примиряются непримиримые – казалось бы – противоречия. Впрочем, следует признать, что эти иногда сомнительные и часто неочевидные противоречия формулируются как противоречия самим Ханом. В данном же случае противоречие заключается в том, что бессмысленное развлечение и сознательная страсть могут оказаться друг другу ближе, чем то может видеться, если слепо доверять исходным положениям философа.
Другой не самоочевидный тезис Хана состоит в том, что история Запада – это история страсти. И то, чего он хотел бы добиться своей книгой, – это деконструировать историю западной страсти, раз уж история Запада и история страсти суть одно. История страсти – также история Запада потому, что именно в западном искусстве – и прежде всего, видимо, в немецком – появляется резкая дихотомия между развлекательным искусством и серьезным, то есть истинным. Эта дихотомия в свою очередь основана на дихотомии духа и чувственности. В отличие от истории Запада, история Востока не опирается на системную дихотомию, поэтому в ней присутствует высокая идея примирения духа и чувства, развлечения и страсти. Эту мысль, впрочем, Хан проговаривает после того, как показал стремление западных интеллектуалов принизить развлечение (удовольствие) и возвысить страсть (страдание). Ярко иллюстрируя, что развлекательный компонент поначалу считался западными философами постыдным и вульгарным в академической музыке, Хан изящно подводит читателей к тому, как это пренебрежение развлечением сменилось совершенно иными настроениями. Поэтому то, что он делает, – это деконструирует историю страсти за счет соотнесения ее с развлечением.
Уже Бах (то есть мы могли бы сказать: даже Бах), с которого начинается «деконструкция» Хана, пародийно – при этом данная пародийность была неосознанной – смешивает божественное и мирское, вписывая сладострастие в священную историю страстей Христовых. «Страсти по Матфею» Баха заканчиваются сладостной песнью, потому глава, где об этом идет речь, называется «Сладкий крест». Или Джоаккино Россини, которого расхваливал Генрих Гейне, сперва сурово осуждался Робертом Шуманом, Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, Рихардом Вагнером и Фридрихом Ницше за стремление к удовольствию, а не к истине – за украшательства, стремление понравиться и проч. Однако Хан также приводит и слова философов, которые ценили Россини, причем не за его «страстность», понимаемую как трагическую глубину. Артур Шопенгауэр и Георг Вильгельм Фридрих Гегель были очарованы музыкой Россини, наслаждались ею, то есть были очарованы на уровне развлечения. Гегель (хотя, с его слов, музыке Россини не была присуща мысль) находил ее прекрасной и неотразимой. Здесь мы могли бы сказать, что Россини был способен аффектировать. Гегель мог оправдать свой восторг тем, что для него страсть и работа духа в его времена совершались не в искусстве, а в философии и науке. Поскольку искусство уступало место науке и философии, оно прекращало служить истине и лишалось страсти. Гегель, как считает Хан, мог не стесняясь восхищаться музыкой Россини, так как в музыке более не было страсти, то есть она вся была подчинена чувственности.
От себя я бы добавил, что этот развлекательный компонент творчества Россини был понят, подтвержден и многократно проиллюстрирован в популярной культуре ХХ столетия. В знаменитой сцене из «Заводного апельсина» 1971 года Стэнли Кубрика главный герой Алекс Делардж приглашает двух инженю к себе домой послушать «дьявольские трубы и ангельские тромбоны». Сразу за этим следует сцена оргии, показанная в ускоренном режиме в темпе звучащей увертюры к опере «Вильгельм Телль» Россини. Некоторая ирония в том, что задолго до Кубрика эта же увертюра послужила саундтреком к мультфильму «Лис и гончий пес» 1940 года, а позже неоднократно звучала в мультфильмах про Багза Банни, Даффи Дака, Порки Пига и т. д. Аффектирующее творчество Россини, служившее развлечением для публики – даже самой интеллектуально требовательной – XIX столетия, стало куда большим развлечением в ХХ веке, способным очаровывать даже детей. И, раз уж речь зашла про ХХ столетие, Хан вспоминает, как суровый и требовательный к академической музыке Теодор Адорно в пух и прах разносил творчество Чайковского на том основании, что Чайковский инфантильно стремился к счастью, забывая о страсти или, сказать лучше, о надломленности. Здесь Бён-Чхоль Хан радостно осуждает Адорно за ригоризм, который в итоге является философским дальтонизмом. А затем Хан изящно ловит за руку Адорно на том, как тот признавался, что безграничное развлечение соприкасается с искусством.