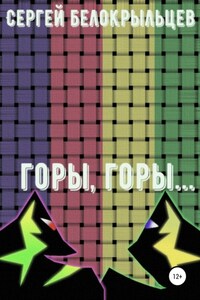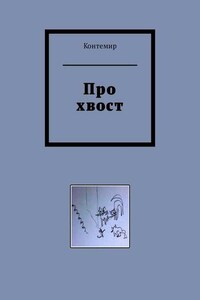С одной девкой из Панаберга общался. Револьгой звать. Переписывались, созванивались. Писал обычно первый я, но первой звякала она. Такое уж у меня устройство и развитие. Мне проще мысли через клаву излагать. Не, если девка звякает, я перед ней соловьём заливаюсь. И красноречивые фразы, срываясь с моего языла и проносясь через воздушный эфир, безвредным пухом влетают той девке в ушную раковину. Словесный пух тает, оттого ей приятно, щекотно, и она хихикает. Я люблю, когда девки хихикают. Это круто.
Смеются женщины. Хихикают девки, хохочут бабы, а ржут суки тяжело невыносимые. Для меня слова “смеётся” и “женщина” – слова обезличенные. Мне 27 гадов, и ни одной женщины я не видел. Всё либо бабы, либо девки, либо суки тяжело невыносимые, с которыми, будучи легко выносимым челом, стараюсь не общаться. Иначе я, будучи легко выносимым челом, легко вступаю в особо тяжкую ругань с сукой тяжело невыносимой.
Но если девке первым звякаю я, всё моё красноречие испаряется в миг, язычина интеллектуально ссыхается. Мозг в рыбий обращается. Тотальное онемение. Ртину разеваю, звуков не произвожу. Такой психологический изюм внутри меня заложен. Девка вопрошает: Чего умолк, занят? Ну не говорить же ей, что я волосы с лобка на палец по одному накручиваю от волнения и выдёргиваю методично. И трубку лижу. Я же не больной о личном, можно сказать, интимном, кому-то сведения предоставлять. Тело моё, волосы мои, а значит и право моё, как мне волосы, растущие на теле моём, править.
Короч, общались мы общались и дообщались до того, что Револьга позвала на Весенний икорный бал. Ты, грит, мне симпатичен, я тобой и необычностью твоей восторгаюсь, прикатывай, затусим. Почти все знакомые девкобабы считают своим долгом сообщить мне о моей необычности. Сообщают почти все, но толком обосновать своё заявление не умеют. А если у утверждения нет обоснования, то и принимать его всерьёз нечего, хотя если оно повторяется разными источниками, тут бы и призадуматься на пару минутин, пока унитаз оплодотворяешь, но не более. Може воспитание медвежье сказывается?
Кста, в курсах же, как полное имя унитаза будет? Универсальный таз. То есть функций у него хватает. В нём постирать можно, скворечник ополоснуть после стрижки, пирог испечь или киселя наварить при необходимости. Може в некоторых моделях заложена и така функция, как езда по городским пространствах. Гонки на унитазах устраивать, сливные чемпионаты проводить и чемпиона по сливным чемпионатам определять. А все пользуются и не знают об этом. У торгаша-то при покупке никто спросить не догадается. А я вопрошаю всегда. И мне отвечают.
Сама Револьга в высших сферах вертится-крутится-галопирует. Не в самых высоких, пониже чутка. Я-то простой, по земле хожу, ссутулившись, у меня и костюма для верчений нет. Причёска сумбурная, чувство юмора такое же, высотой и тонкостью не отличается. А она, не переживай, со мной не пропадёшь, я там своя в доску и пользуюсь уважением.
Собрался, одолжил у дядьки Вацлава приличный костюм и на электропсе примчал в Панаберг, до самого вокзала мчал. Кста, в курсах же, как будет полное имя вокзала? Так и будет, вокзал.
Револьгу узнал тут же. Она плакат перед собой держала с моим наименованием. Нарядная, холёная, напомадилась, взор оливковый, чёрные волосы в косу замотала и через плечо перебросила. Ну, обнималки-чмокалки, чё, как доехал. Сели в её лягуху и к ней. А пещерка у ей…
Вечёром на икорный бал махнули, на Весенний. В Евсонском море северных широт нерестится кадосел. Раз в пятигадье происходит циклон и всех этих кадоселов закручивает, захватывает в небо и смешивает с тучами. Получается рыбно-тучная каша. И небесная эта масса по воздуху доползает до Панаберга и выплёскивается-вываливается на город и его жителей. А те уже приготовились и ходят, в плащи замотавшись и зонтами твёрдыми накрывшись, или, по пещерам попрятавшись, в оконца пялятся. Редко кто кудоселом по ланите или молокой по усте отхватит. Или икриной в глазилу меткий выстрел получит. Веселья, короч, мало. И в честь всего этого в Мышином Дворце устраивается Весенний икорный бал. Мероприятие для своих. Там собираются политики, бизнеслюди, официальные сочинители писанины, музонины и прочей белиберды.
В такую вот высшую среду втянула Револьга. Не скажу, что питательную. Она в представлении танцовщицей действовала, в финале. Зал огроменых масштабов, особенно если в собачьих будках мерять, все важные, за столиками сидят, мординами двигают, как сомы от важности своей охуевшие, глазищами зыркают, пьют, жрут, общение меж собой затеяли. Впереди сцена с фиолетовыми кулисами и яркими декорациями. Всякие выходят, говорят-поют и уходят. Иногда даже смешное что-то, но в основном тягомотина шаблонная, с реальностью и творчеством ничё общего не имеющая. А которые за столиками, те ржут как кони, страдающие задержкой в развитии. Очень сильно страдающие. А мне не смешно. Ну ладно, я тонкий юмор высших сфер никогда не понимал. Пели тоже скучно, как по транспортиру, обыдловано. Отпоют и убегают второпях, будто боятся, что без них всё выпьют и выжрут.
Револьга в гримёрку ускакала, финал скоро. Мы с какими-то литераторами сидели. Один всё хвастался, что он агент и написал полсотни книг. Вот же, думаю, талантище, полсотни книг. У меня приятель есть, он одну книжку гадами ежедневно сочиняет, всё сочинить не может, а этот бородатый полсотни нашлёпал. За восемьдесят суточин. Другой о семинарах рассуждал. Я, грит, на семинар такого-то писаки известного ходил. Я интересуюсь, а чё, великолепно тот писака строчит? А он отвечает, не знаю, я его книг не читал, тока на его семинары хожу. Болтовня с этими индюками быстро утомила. На столике графинчик краснел винишкой вкусным. Тем и развлекался.
Со сцены спустили огромный бело-синий тортище в застывших кремах и всяких корках. Всем по куску раздали. Ещё официаны жратву всяку разносили. Я тоже, когда за вином потянулся, тарелку с салатом об пол разнёс. И котлет с луком наелся, пока бесплатно. Револьга сказала, что в конце сюрприз случится, а какой – умолчала. Я думал, на сцене действо особое произойдёт. Ждал с нетерпением. Обожаю зрелища. И вот финал. Заиграла весёлая музыка, на сцену сформированной кодлой танцовщицы вынеслись, в пестрейшем тряпье развевающемся беснуются, лентами сверкают, ноги выше сисек задирают. И Револьга среди них. А у самой харя така скукоженная, будто стоит ей рожу попроще состряпать, так её на куски разорвёт. Тут музыка стихла, света потухла. Голос со сцены с чувственным нажимом произнёс: “Пора, дамы, пора, господа!”. Где-то через минутину свету врубили. Смотрю, кто-то всех раздел, разул и шмотьё по полу раскидал. Один я одетый, до меня добраться не успел. Вот сюрприз так сюрприз. А этот клоп, любитель семинаров который, на меня зашипел: “А ну раздевайся!”. Сам тощий и дохлый, как церковный крыс. Я бы с таким телосложением ваще ртину не раскрывал. Ответил ему вежливо, заткнись, дурак, пока шипелка цела. И что интересно, все на меня с такой неприязнью зыркают, словно я голый, а не они.