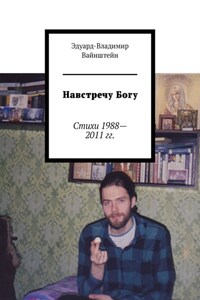Проскакал на розовом коне…
Есенин – самый популярный, в прямом смысле – народный и при этом совсем не общедоступный поэт. Его поэтика, при кажущейся простоте и прозрачности, причудлива и удивительна. Немало удивительного и в его судьбе. Явившись из деревенской глуши, он, по утверждению «людской молвы», поднялся по парадной лестнице Петербургского Дома Искусств в деревенских валенках и лазоревой косоворотке, не конфузясь неприглядной «одевы», уверенно и спокойно – как власть имеющий, как полномочный посол Всея Руси. На расстоянии полувека, в середине шестидесятых, дебют Есенина выглядел именно так – лубочно-триумфально. Легенда, героем которой он сделался, стерла детали, мешающие апокрифу о пришествии «вербного отрока» сохранить, что называется, чистоту жанра.
В действительности начинал Есенин отнюдь не блистательно. Его ранние, написанные еще в церковно-учительской школе (1909–1912) стихи и подражательны, и несовершенны. Да и прибыл Сергей Александрович из рязанского захолустья в Москву не для того только, чтобы удивить отставную столицу своим явлением. Переехал, как и многие получившие образование крестьянские дети, на заработки, ибо «пропасть в глуши» и тянуть лямку наставника деревенской школы грамоты при самом искреннем сочувствии к «забитому» и «от света гонимому народу» решительно отказался. Несмотря на слезы матери и гнев отца, которым очень-очень хотелось, чтобы их первенец, такой пригожий и умный, всему селу на зависть стал учителем.
Сменив несколько явно не подходящих ему профессий (конторщик в мясной лавке, экспедитор в издательстве «Культура»), новоиспеченный москвич довольно быстро нашел приличную работу – устроился помощником корректора в типографию Сытинского издательского товарищества. Там, кстати, познакомился с порядочной и славной Анной Романовной Изрядновой, сблизился с ней, по примеру ее и совету записался вольнослушателем в народный университет им.
А. Л. Шанявского (1913). В 1914 году Анна родила от Есенина мальчика, названного по инициативе девятнадцатилетнего отца Юрием (погиб в период сталинских репрессий в середине тридцатых).
Университетская среда пришлась по вкусу «вчерашнему жителю села», он много читает, дружески сходится с такими же, как сам, жадными на ученье выходцами из крестьянского сословия, они-то и вводят Сергея в Суриковский музыкально-литературный кружок, деятельно и умело опекавший писателей из народа. Короче, времени даром не теряет, принимает даже участие в организационных хлопотах по созданию собственного журнала суриковцев «Друг народа»; там же публикует стихотворение «Узоры», годом ранее Есенина начал полегоньку печатать и еще один московский тонкий журнальчик для детей – «Мирок»; что же касается серьезных толстых журналов, то они глухо молчат, хотя Сергей Александрович регулярно отправляет по элитарным редакциям подборки новых своих произведений. Однако усилия не эквивалентны результату: Москва, приютив честолюбивого провинциала, явно не спешит признать в нем оригинальный талант и упорно не выделяет среди начинающих «самородков». Однако Есенин слишком верит в себя, в свою «будущность» («я о своем таланте много знаю»), чтобы отступить и вернуться не солоно хлебавши в родные «рязани». Кроме того, едва осмотревшись, он быстрехонько сообразил: в Москве, бездушном буржуазном городе, «где люди большей частью волки из корысти» (из письма к деревенскому другу Грише Панфилову), не найдет ни истинных ценителей, ни просвещенных меценатов-издателей. В том же письме поэт признается товарищу ранних лет: «Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер». Надо отдать должное интуиции сельского мечтателя: расчет на Северную столицу был верным. В начале ХХ века именно Петербург, вопреки традиции, а не Москва, увлеченная пропагандой и усвоением художественных достижений Запада, становится своеобразным славянофильским центром. Однако и московское неозападничество, и петербургское неославянофильство, равно как и волна культурного подъема в крестьянстве (она-то и подняла на своем гребне и вынесла на гулкие улицы столиц крестьянских поэтов), – лишь разные стороны одного процесса. Промышленный бум конца века выдвигал Россию в мировые державы, а это не могло не стимулировать амбиций национального самосознания. Культурная Россия словно бы напряглась и замерла в ожидании Нового поэта, который, по предсказанию Блока, непременно найдет краски и слова для выражения смертной любви россиянина к бедной своей родине. Поэта, который неведомо каким – чудесным! – способом добудет затонувшее в недрах ее болот и суглинков «поющее золото». Блок не только предсказал неизбежность вспышки на русском литературном горизонте необычайной – новой и ослепительно яркой поэтической звезды. Он еще словно бы «отпортретировал», «назвал по имени» темы, сюжеты, ключевые образы лирики Есенина 1914–1915 гг. – провидчески, наперед, в знаменитом эссе 1906 года «Безвременье», то есть почти за десять лет до того, как они были созданы…
«Пляшет Русь под звуки длинной и унылой песни о безбытности… Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и еще дальше, как рукавом, машут рябины, все обсыпанные ягодами. Нет ни времени, ни пространства на этом просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом… Вот русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний. Когда же наступит вечер и туманы оденут окрестность, даль станет еще прекраснее и еще недостижимее» (Блок, «Безвременье»).
И предположить невозможно, что знаменитое это эссе, так же как и написанное в том же эстетическом и эмоциональном регистре стихотворение Блока «Осенняя воля» (1905), прошло мимо внимания Есенина. Слишком пристально и ревниво следил он за творчеством их автора, очень уж прилежно учился у него «лиричности» («Блок и Клюев научили меня лиричности». «О себе», 1925). К тому же студенты народного университета старались быть в курсе свежих веяний, да и напечатано было «Безвременье» в журнале «Золотое руно» – дорогом, престижном, бережно, в особом библиотечном фонде хранимом (библиотека в университете им.
А. Л. Шанявского была отменной). Во всяком случае, готовясь удрать в Питер и ломая для «Радуницы», первого своего сборника, прежнюю поэтику, ориентированную на вкусы преподавателя литературы в Спас-Клепиковском училище, Есенин, начиная с осени 1914 года, работает как бы по блоковскому «сценарию». Упорно, например, добивается впечатления синевы и шири (не пространства, а точь-в-точь как в «Осенней воле» – простора, «далей неоглядных»: «Скачет конь, простору много,/Валит снег и стелет шаль./Бесконечная дорога/Убегает лентой вдаль»); изобретает, словно прислушиваясь к урокам учителя, все новые и новые образы для выражения «щемящей тоски неисполнимых желаний»; тоска у него теперь, после заочной встречи с мастером Блоком, и «озерная», и «солончаковая», и «журавлиная»… Крайне изобретательно использует Есенин и открытый Блоком эффект взгляда сквозь утренний или вечерний туман («даль подернулась туманом…»), и счастливо найденное им же сравнение дерева с девушкой, взмахивающей рукавом (Блок: «Как рукавом, машут рябины»; Есенин: «Как метель, черемуха машет рукавом»). До того, как Есенин выбрал в мэтры Александра Блока, выработанный им план первого поэтического сборника был совсем иным, куда менее оригинальным. Московский его приятель литератор Д. Семеновский вспоминает, что еще летом 1914 года Сергей говорил: «Напишу книжку стихов под названием «Гармоника». В ней будут отделы: «Тальянка», «Ливенка», «Черепашка», «Венка».