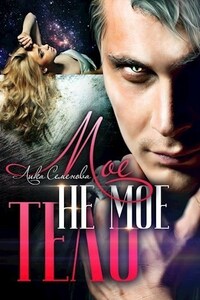Миранда уже не кричала. Из соседнего помещения доносились лишь голоса солдат, характерные скрипы и сдавленные стоны время от времени. Будто сквозь сжатые зубы.
Я обхватила колени заледеневшими руками, которые уже не чувствовала, и сжалась еще сильнее. Мне так казалось. На деле ничего не изменилось — я одеревенела. Остальные тоже. Мы сидели на полу камеры, вдоль стен. Молчали, не смотрели друг на друга. Только в углу бесконечно рыдала девчонка с тугой черной косой. Не помню ее имени. Кажется, Брижит. Впрочем, какая разница. Лучше не знать имен, потому что имена сближали. Мы не должны сближаться — так становится только больнее. Каждый сам за себя.
Они приходили, когда вздумается. Когда приспичит. Обычно, кто-то из младших офицеров и двое рядовых в синих кителях. Когда со скрипом открывалась решетчатая дверь нашей камеры, все внутри обрывалось. Умирало снова и снова. Съеживалось, как тельце потревоженной улитки. Но не было раковины, в которую можно было бы спрятаться. Офицер шарил взглядом по нашим опущенным головам, принюхивался, поводя носом, как собака, и просто показывал пальцем. Одним из шести. Тот, кого уводили солдаты, больше не возвращался.
Я постоянно думала о том, что с ними было потом. Хотелось верить, что они оставались живы. Знала, что не стоит думать, потому что эти мысли уничтожали, ослабляли. Но я вновь и вновь с каким-то больным мазохизмом гоняла их в голове, будто от них что-то зависело. На деле — не зависело ничего. Я просто обреченно ждала, когда выберут меня. А меня выберут рано или поздно. Нас осталось двенадцать. А вчера было четырнадцать. Неделю назад — девятнадцать.
Нас перехватили по дороге в Ортенд. Случайно или кто-то сдал. Уже не важно. Мужчин и пожилых женщин перестреляли. Оставили только молодых, для развлечения. И то ненадолго. Кормить нас месяцами никто не намеревался. Все голодали. Даже виссараты. Так говорили. Впрочем, никто не верил. Особенно, чуя запахи еды, которые частенько доносились из коридора. Мы захлебывались слюной, желудки сворачивались в узел.
Когда скрипнула дверь камеры, я вздрогнула, едва не ударилась затылком о стену. Они вошли. Снова трое. Офицерские сапоги было видно сразу: из черной кожи, с множеством ремней и глянцевых пряжек.
— Все встали и построились в коридоре.
Они говорили с едва заметным жестким акцентом, и это казалось еще отвратительнее. Будто присвоили и наш язык, будто издевались. Никто не шелохнулся. Мы лишь завозились и опасливо переглядывались, застывая от ужаса. Несколько часов назад они забрали Миранду. Неужели, опять?
Двух первых девушек выволокли за волосы. Тех, которые сидели ближе всех. Остальные не стали дожидаться и вышли гуськом, опустив головы. Как тупые овцы. И я шла, как овца, но выбора просто не было. Нас расставили вдоль решеток шеренгой. Велели выпрямиться. Едва ли может быть что-то хуже того, что они делают обычно, но сейчас было еще страшнее. В жизни не было так страшно. Даже тогда, когда я бежала в овраг, надеясь спрятаться, а ноги мгновенно обвило пущенное виссаратом прицельное лассо. Короткий миг падения казался самым невыносимым. Жаль, я не ударилась лицом — была бы уродливой.
Я смотрела на свои башмаки. Новые они были красивые. Из рыжей тисненой кожи, с камнями на ремешках. Теперь камни вывалились, я видела заляпанные грязью истертые носы, а в подошве правого давно была дыра. Я любила красивую хорошую обувь. Там, в прошлой жизни. До войны.
Повисла удушающая гнетущая тишина. Я чувствовала, как солдаты напряглись. Ожидание повисло в воздухе. Тягучее, как застарелая вода. А потом шаги. Неторопливые, размеренные. Тяжелые. Я стояла в хвосте шеренги. Не выдержала, подняла голову. Офицер-виссарат в коротком сером кителе, шитом серебром, длиннополом черном плаще и высоких сапогах с металлическими вставками. В руках он покручивал короткую трость с серебристым навершием в виде сжатого шестипалого кулака.
Карнех. Кажется, так их титулуют.
Он шагнул к крайней девушке и бесцеремонно крутил за подбородок ее голову. Та стояла, как кукла. Или как труп. Виссарат поводил острым носом с горбинкой, втягивая воздух у ее лица. Запах. Они всегда ищут запах. Наслаждаются им. Страха, или черт знает чего еще — мы не знали в точности. Потом карнех перешел к следующей. Он выбирал… Методично, размеренно, как вещь в лавке. Как кусок мяса на рынке.
Чем ближе он продвигался ко мне, тем сильнее колотилось сердце. Казалось, грудная клетка содрогается от этих бешеных ударов, гудит, как колокол. Я надеялась, что он остановится на ком-то из моих подруг по несчастью, но виссарат, похоже, решил «посмотреть всех». Когда я почувствовала его пальцы, все шесть, на своем подбородке — задеревенела, сжалась. Он надавливал, но я упорно гнула голову вниз. Безумно. Я ничего не слышала и не видела, лишь ощущала, как пахнут дымом его мягкие серые перчатки. Старики говорят, они делают их из человеческой кожи. Он сминал мое лицо. На мгновение показалось, что треснет челюсть. Больно. Завтра будут синяки. Впрочем, разве это имеет какое-то значение? Будет ли для меня это завтра?
Я подняла голову и встретилась с обдающими холодом глазами. Никогда не видела таких пугающих глаз. Светлые, почти белые. Лишь серый контур радужки и три зрачка перевернутым треугольником. На контрасте с черными ресницами эти бесцветные глаза казались еще необычнее. Я умирала от страха, но не могла оторвать взгляд. Он будто пристыл, как язык на морозе к промерзшему металлу. Виссарат склонился ко мне, навис с высоты своего роста, как скала, заслонившая солнце, привычно повел носом, шумно втягивая воздух. Несколько мгновений стоял, замерев. Выдохнул, но снова втянул, будто одного вдоха оказалось не достаточно. Он словно пробовал что-то непонятное мне на вкус, смаковал.
Карнех разжал тонкие, будто изломанные губы:
— Улыбнись.
Голос был еще холоднее, чем его глаза. Резал, как острие ножа. Я даже не сразу поняла, чего он хочет. Просто глупо смотрела. Глупо и до самоубийства открыто.
— Покажи зубы.
Он не стал дожидаться. Запустил пальцы мне под губу, оттягивая. Просто хмыкнул и брезгливо скривился, будто нашел изъян. Но у меня хорошие зубы. Наконец, карнех отстранился и переключился на следующую девушку, рядом. Я с облегчением выдохнула, без всякой жалости надеясь, что та заинтересует виссарата гораздо больше. К счастью, у него был выбор. Один шанс из двенадцати — не так уж и плохо. Но и не невозможно. Рядом со мной он задержался дольше всего. Мы все были грязные и выглядели отвратно. Но это, видно, никого не смущало. Виссараты не отличались брезгливостью — это мы уже успели понять.