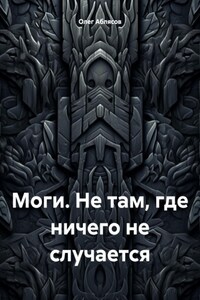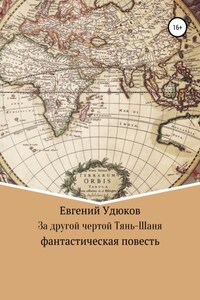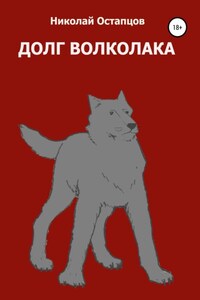Если бы я сейчас сидел в кино, я бы сказал, что на большом и тёмном экране почти ничего не было видно. Царила ночь, хлестал ливень и слышался треск веток под ногами сотен или даже тысяч бегущих людей… нет, почти же ничего не было видно, поэтому треск веток под ногами сотен или даже тысяч бегущих не разглядеть кого. Хотя голоса и крики были вполне себе разборчивыми, потому что это один из законов кинематографа – даже если тебе показывают иностранцев или не к ночи помянутую не пойми какую страхолюдную сущность из иных миров, они будут сразу дублироваться на понятный тебе язык. Ну, или снизу запустят субтитры.
– Я не могу так! – хрипло сквозь тяжёлое дыхание, остановившись, произнёс один из тех, кого на тёмном экране невозможно было разглядеть. – Я не могу её оставить здесь! Если вы можете, то я не могу! Мы бежим и знаем, по каким причинам мы бежим, но почему мы её оставляем здесь?! Ведь это неправильно…
– Это было её решение, – кое-как ответил ему, запыхавшись, другой остановившийся. – Мы же не можем насильно вытащить её из земли! Она же сказала – и для нас это трагедия! – что если она потеряет связь с землёй, она перестанет быть… Она сказала, что вы найдёте себе другую такую как я, точно найдёте, пройдёт время и найдёте! Помнишь, как мы стояли вокруг неё на коленях, упрашивая уйти с нами? Оставьте меня здесь, говорила она, кто-то должен остаться здесь на случай, если вы когда-нибудь вернётесь, говорила она… ко мне… Вы не останетесь без меня, другой меня, сказала она, ты слышал сам! Ведь матери своих детей не бросают, даже если их – матерей – дети оставляют! Это невозможно!
Всё так же слышался треск веток под ногами бегущих и тяжелое дыхание собеседников.
– Я тебе как старейшина говорю, – не дождавшись реакции, продолжил убеждать тот, кто назвал себя старейшиной, – всё будет как всегда, как раньше, только в другом месте.
– Без неё?…
– С ней. С другой ней. Но уже не здесь. И не сейчас…
– А что сейчас? Что?! Предательство?!!
Вдали стихал топот бегущих. И такое ощущение, что раздался звук открываемого металлического люка – характерное лязганье и шипение пневмопривода.
– А сейчас… сейчас нам всем надо сесть в звездолёт и лететь в поисках новой родины. Здесь мы уже не можем оставаться. Ты знаешь это. В конце концов, это её последняя воля, завещание, просьба, считай как хочешь, чтобы мы ушли, сейчас она никак не может нам помочь, спасти нас… По крайней мере, спасти нас всех. И ей непереносимо будет смотреть на то, что мы остаёмся беззащитными… Говорила… нет, просила, умоляла она нас… Ведь любить это значит защитить. Понимаешь?
– А кто защитит её?!
– Поверь, меньше всего она нуждается в нашей защите, – продолжал убеждать старейшина. – Ведь для любой матери главное забота, а уж потом собственная безопасность. И даже не в этом дело! Мы никак не сможем ей помочь, там борьба идёт совсем на другом уровне, нам не подвластном. Кто мы и кто Она! Неужели до тебя не доходит?! И если так, то мы будем только мешаться и путаться под ногами. Это как драться над муравейником, боясь ненароком раздавить муравьёв, и поэтому всё время глядеть под ноги, а не в глаза врага. Она не сможет защитить нас всех и не сможет постоять за себя так, как если бы нас не было рядом.
Они помолчали.
– Вот и поэтому тоже мы уходим… – резюмировал старейшина.
Кто-то крикнул издалека: «Мы уже все погрузились на корабль! Вы скоро?!».
– Идём! – крикнул старейшина.
И две едва различимые фигуры обречённо двинулись к космическому кораблю, в такой темноте ровно так же почти не видимому.
Вдали раздалось громоподобное рычание и пронзительный звук сотен гигантских – судя по громкости звука – труб. И голос из тьмы и откуда-то сверху: «Конец вам настал, вы перестанете существовать!». Он был такой громоподобный, что если собрать вместе миллион этих самых громов, то вот с такой концентрацией свирепости его и можно сравнить.
Две фигуры, прикрыв уши, пошатнулись от вибраций звука и ускорились. Старейшина запрыгнул в люк, а когда понял, что его товарищ не торопится сделать то же самое, выглянул наружу.
Тот стоял, опустив голову. А потом поднял взгляд на старейшину и тихо, но твёрдо произнёс:
– И всё же я остаюсь… Я не предатель.
Старейшина посмотрел вслед удаляющемуся соплеменнику, обречённо идущему навстречу явной, пусть и героической, гибели, и едва слышно сказал:
– Мы тоже… не предатели… Оставайся с миром и удачи тебе…
Крышка люка с шипением притянулась. Корабль взлетел.
В яркий солнечный день, который поневоле заставляет щуриться, из двухэтажного дома на просторной и огороженной лесной лужайке вышли девочка вприпрыжку и мужчина с парой рюкзаков и сумкой.
– Папа, а вот если муравей залез на листок дерева, а тут сильный ветер, и листок сорвало с ветки вместе с муравьём и отнесло, не знаю куда как далеко. Как ему дорогу назад найти? – спросила девочка, словно продолжая начатый дома разговор. – Или они как собаки на нюх ориентируются?
– Насколько я знаю, дочка, – мужчина запирал дверь, и у него это выходило как-то неловко, – в сильный ветер муравьи и не выходят из дома… это, как его, из муравейника. Заделывают хвоёй все входы и выходы и пережидают непогоду.
Папа поставил багаж к заднему колесу подъехавшего по просёлочной дороге такси.
– А вот если бы я была муравьём, я бы специально залезла на листок дерева и ждала ветра, чтобы оторваться и полетать. Чтобы увидеть то, чего с уровня человеческого… м-м-м, муравьиного роста не видно.
– Если бы ты была муравьём, ты бы не демонстрировала не свойственное этим насекомым столь эгоистичное стремление быть одной без всех, муравьи обладают коллективным и поведением, и мышлением. Я хоть в науке и не совсем по этой части, но всё же что-то то ли помню, то ли оттуда-то знаю, что дружба у насекомых – это когда никто даже не думает быть один без всех. Ну, это если говорить о них как о людях…
– А любовь могла бы их заставить хоть иногда быть без всех?
– Поэ, дочь моя! Что ты мне руки у души выкручиваешь?! Какая любовь у муравьёв, у них инстинкты! Сейчас…
– А что такое инстинкт… кты?
– Ну, это когда ты молниеносно делаешь что-то или вдруг становишься способным сделать что-то, не думая, зачем это нужно делать. Делаешь и всё, пока не поздно.
– То есть, – не унималась Поэ, – инстинкты это когда не надо думать, а любовь это когда думать надо?