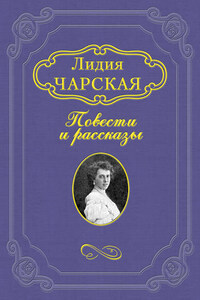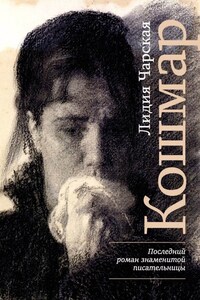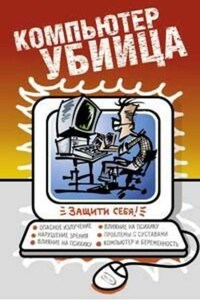Длинный, длинный коридор, по обеим сторонам которого высокие, большие двери с надписями: «библиотека», «музыкальный класс», «репетиционная»… В самом конце, над дальней дверью, небольшой образ, здесь домовая церковь.
Осеннее солнце белыми зайчиками играет на квадратиках паркета.
Я останавливаюсь у третьей двери направо, с небольшою вывескою: «канцелярия».
Там, за дверью, моя судьба.
Я похолодевшею рукою дотрагиваюсь до медной ручки. Когда дверь распахивается, я точно проваливаюсь в какую-то бездну.
«Ну, Лида Воронская-Чермилова, крепись! Ты сама жаждала этого, – повторяю я мысленно. – Никто не толкал тебя сюда. Собери же все твое мужество, вспомни, ради кого ты пришла завоевывать труднодостижимое, и крепись».
Но, как ни стараюсь я подбодрить себя, мои колени подгибаются, а руки дрожат.
Первое, что бросается мне в глаза, это большой письменный стол, перед ним широкое кресло. В кресле – господин в синем вицмундире, плотный, с тонко закрученными длинными усами и быстрым живым взглядом карих глаз. Совсем как институтский преподаватель.
И совершенно упустив из вида, что мне двадцатый год, я отвешиваю незнакомому господину самый «непозволительно-низкий» реверанс, точно я какая-нибудь пятиклассница-институтка.
Затем, поняв свою ошибку, нелепо складываю руки «коробочкой», как это делают институтки, когда им приходится выслушивать выговор начальницы и инспектрисы, и молчу, вытаращив глаза на господина в синем вицмундире. А в голове невидимые молоточки стучат: «Кончено! Осрамилась! Совсем осрамилась на веки веков и бесповоротно. О, глупая, трижды глупая Лида!»
Вероятно, я представляю собою довольно комичное зрелище, потому что легкая улыбка появляется у господина в вицмундире. Он привстает со своего места и ободряюще говорит:
– Вы, вероятно, желаете быть допущены к конкурсному экзамену и подавали прошение? Ваши бумаги здесь?
– Да, – говорю я так, точно от моего ответа зависит жить или умереть, – я послала сюда прошение и бумаги.
– Ваша фамилия? – обращается он ко мне с вопросом, роясь в то же время в кипе бумаг на письменном столе.
– Лида Воронская, – выпаливаю я как-то уж слишком быстро и цепенею от ужаса.
Какая же я Лида, да еще Воронская, когда мое настоящее имя Лидия и уже второй год я больше не Воронская, а Чермилова!
Я хочу поправить свою ошибку и начинаю лепетать что-то.
Слава Богу! Господин в синем вицмундире ничего не замечает. Он ищет мое прошение среди вороха бумаг и не находит.
– Странно! Гм! Очень странно! – говорит он. – Прошения Лидии Воронской здесь нет.
– Ну, конечно! – отвечаю я, мгновенно приходя в себя. – У вас и не может быть прошения Лидии Воронской.
– То есть, что вы хотите этим сказать? Проницательные глаза его смотрят строго, почти сердито.
– Ах, извините, – роняю я безнадежно, – я… я… ошиблась… я… не Лида Воронская, а Лидия Чермилова… Воронская – это моя девичья фамилия. А я замужем.
– Замужем? – спрашивает удивленно «вицмундир». – Такая молоденькая и уже замужем!
В лице его я вижу сомнение, правду ли я говорю.
Тогда я быстро начинаю объяснять ему, что мне скоро двадцать лет, что замужем я уже почти два года, что я мать шестимесячного мальчика и что решила работать для моего ребенка; хочу, во-первых, сама, своим трудом, поднять его на ноги, а во-вторых, хочу добиться славы, чтобы мой ребенок мог впоследствии гордиться своею матерью, и вот, по этим двум причинам, прошу зачислить меня на драматические курсы.
Я говорю, не останавливаясь ни на минуту. Видя, что господин в вицмундире слушает меня внимательно и не прерывает, я уже не могу удержаться и… начинаю, неизвестно зачем, описывать наружность «моего маленького принца», как я называю моего ребенка, рассказываю про его характер, про его привычки, словом, все то, что меня так забавляет и радует в нем.
Затем я объясняю моему слушателю, что мой муж офицер, что он уехал в Сибирь и ранее трех лет не вырвется оттуда, что мужа моего я называю «рыцарем Трумвилем», а он меня «Брундегильдой», что прежде жили мы в Царском Селе, в офицерском флигеле стрелкового батальона, что я свою квартиру называла «замком», что, кроме мужа, у меня отец и мачеха, которых я называю «Солнышко» и «мама-Нэлли», что именно у них я жила после отъезда мужа.
– Позвольте, позвольте! – смеясь, прерывает меня, «вицмундир». – Не знаю, какое все это имеет отношение к вашему прошению относительно допущения вас к экзаменам?
– О, близкое, очень близкое! – возражаю я, – ведь я решила оставить Солнышко и маму-Нэлли исключительно для того, чтобы поступить к вам на курсы. А поступить я желаю, во-первых, потому что я уже вам объяснила причину…
– Все это прекрасно, – осторожно прерывает он меня. – Я вижу, что у вас много темперамента, искренности. Для того дела, которому вы желаете посвятить себя, все это, конечно, весьма желательно, но самое важное – безграничная любовь к нему. Она, эта любовь, пожалуй, даже важнее таланта, способностей, и без нее не добиться намеченной цели…
Тут мой собеседник заговорил о театре, о сцене, о драматическом искусстве, о том, сколько усилий и работы требуется для того, чтобы стать артисткою.
– Вы сказали, что хотите работать ради вашего ребенка. Это, конечно похвально. Но, мне кажется, для этого вы выбрали не совсем подходящий путь… Чтобы посвятить себя сцене, искусству, нужно прежде всего любовь к нему… Скажите, задавали вы себе вопрос, достаточно ли у вас любви к искусству, чтобы преодолеть все те трудности, которые вас ожидают в будущем на поприще артистки?..
Минуту глаза господина в вицмундире смотрят в мои вопрошающим строгим взглядом, как будто желая угадать все, что происходит в моей душе.
– Люблю ли я искусство? – говорю я, точно разбуженная его словами, – да я его не только люблю, я его обожаю… Я убеждена, что это самое лучшее, что есть на земле… Ведь искусство – это правда и красота… Да, я, хочу стать артисткой, чтобы работать для моего ребенка, но вместе с тем я уже давно чувствую влечение к сцене, к театру.
– Вы никогда не выступали на сцене? – спрсил он.
– Ах, нет, если не считать двух любительских спектаклей… Но с детства я упиваюсь отрывками трагедий, стихами… С детства чувствую призвание к сценическому искусству, хотя имею о нем пока лишь смутное понятие… И я… я живу мечтою о чем-то большом и красивом, что должно поднять меня на своих крыльях и унести от земли…
– Все это прекрасно, – замечает господин в вицмундире и смотрит на мою хрупкую, тоненькую, как у подростка-мальчугана, фигуру, – но вынесете ли вы, под силу ли вам будет тот труд, под которым сгибались гораздо более крепкие спины? Путь, избранный вами, труден и тернист, а вы, в сущности, еще дитя и хрупкое дитя при этом…