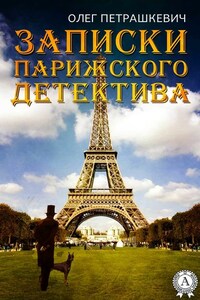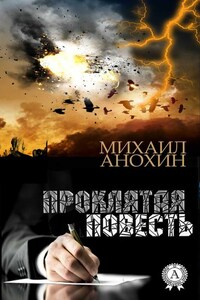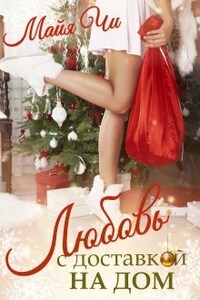Июньским вечером 2010 года я стояла с чашкой горячего кофе на просторной террасе своей новой квартиры, прислушиваясь к поющим на все лады припозднившимся птицам и вглядываясь в ломаные очертания Старого города, знакомого до последнего рыжего кирпичика Heidelberger Schloss[3].
Подобно немедленно ожившей цитате из немецкой романтической поэмы – в духе Schelling, Novalis или Ludwig Tieck[4] – приветственно мерцал он, ярко освещенный причудливыми сполохами оранжевой иллюминации, на фоне темнеющих холмов вдали, призывая усталых путников немного отдохнуть в своей расцвеченной сени.
Kaum einen Hauch;
Die Vogelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
«Не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь и ты…» – не об этом ли было произнесено великим поэтом?
Мне же эти сумеречно-рыжие и оранжево-золотистые пятнышки редких вечерних огней старого замка, пробивающиеся сквозь конусы кипариса, которым была уставлена вся терраса, напомнили о шкуре леопарда, словно бы наброшенной на один из пологих замковых склонов.
Мельком поглядывая на отражение монитора в наливающемся кобальтовой мглой стекле раскрытого окна, ведущего на террасу, не слишком внимательно слушала я последние новости, одновременно припоминая недавний разговор с Янушем фон Армансбергом…
– …Послушай, Януш, ты не мог бы оказать мне невероятную любезность и перестать называть его моим?.. – иронически осведомилась я, припечатав несчастного Януша взглядом. По сути, Сандерс никогда и не был моим. Этот странный человек – словно тревожный, неуютный, холодный снежный рассвет на севере – не для меня…
Януш примиряюще улыбнулся и наконец замолчал.
На столе стояли две недопитые чашки кофе, а на самом краю лежал подарок Януша из цветочного магазина Mai – бережно упакованный в фиолетовую коробку c шелковой лентой роскошный букет белой сирени…
Что ж, Януш знает мои консерватóрские вкусы! Пора домой.
В окно кафе залетал прохладный ветер, Италию сменил хороший, настоящий американский джаз сороковых, и, как всегда бывает при смене музыкального фона, внезапно изменилось и мое, без того склонное к внезапным импульсам, настроение. Позвольте, а чего же еще ждать от девушки, окончившей университет и консерваторию, ценящей поэзию вагантов[6], любящей Скрябина и Рахманинова, Блока и Булгакова, Басё и Сэй-Сёнагон вкупе с «Непрошеной повестью» – пятью свитками-дневниками известнейшей японской поэтессы и придворной дамы XIII века Нидзё?.. Признаюсь, ее очаровательная, трагическая, не завершенная и предельно откровенная «Непрошеная повесть» в прекрасных переводах И. Львовой и А. Долина – удивительное сочетание дневникового, интимного и повествовательного жанра никки и цукури моногатари – еще с юности стала моей настольной книгой на долгие годы…
О, как же меня завораживало то «бликующее марево старого Востока», чарующая атмосфера размеренной и предельно ритуализированной придворной жизни, которую я тогда себе рисовала и героиней которой являлась сама:
«Миновала ночь, наступил Восьмой год Бунъэй, и, как только рассеялась туманная дымка праздничного новогоднего утра, дамы, служившие во дворце Томикодзи, словно только и ждали наступления этого счастливого часа, появились в зале для дежурных, соперничая друг с другом блеском нарядов. Я тоже вышла и села рядом со всеми. Помню, в то утро я надела алое нижнее платье на лиловом исподе, сверху – длинное темно-красное косодэ и еще одно – светло-зеленое, а поверх всего – красное парадное карагину, короткую накидку с рукавами. Косодэ было заткано узором, изображавшим ветви цветущей сливы над изгородью в китайском стиле… Обряд подношения праздничной чарки исполнял мой отец – дайнагон, нарочно приехавший для этого во дворец…»[7]
Пробы пера – ранние стихи, и маленькая акварель на шелке, выполненная мной почти что в духе старых японцев. Помню, там было изображено окно с прозрачной тюлевой занавесью, изящная ваза с изогнутой ручкой, голубая лагуна и трепетная тень мотылька, парящего над морской далью.
Хрупкая зеленая травинка и паучок на голубой бумаге.
Изящество и грациозность.
Покой и красота налаженной жизни, простота и безмятежность, отчаяние и отвага юной влюбленной женщины.
Улыбаюсь, бережно храня в памяти все эти свои впечатления от прочитанных книг: мои дневники, маленький альбом с юношескими акварелями и первые «пробы пера» спустя годы…
Столько прекрасных принцесс, царедворцев когда-то съезжалось
В этот чертог, где звучит бури стон, пробуждающий жалость!
Веет печалью в садах при покинутом женском покое.
Будто слезами, кропит их вечернее небо росою[8].
Пусть все это лежит и сохраняется до поры до времени, как полузабытые свитки интимного дневника Нидзё. Новые, еще не до конца просохшие свитки – теперь уже моей непрошеной повести о Золотом кодексе Лоршского монастыря – пусть также сохранятся до поры до времени в японской черной лаковой шкатулке.
В шкатулке – с золотым замочком.
– …Ну хорошо, хорошо, на сегодня закрываем нашу историческую сессию, хотя я не понимаю, почему ты не хочешь говорить о Веронези. Ведь ты – его ученик, лучший!.. – Захлопнув ноутбук с моим эссе о Золотом кодексе из Лорша на самом интересном месте, сердито воззрилась я на несчастного Януша с новым упреком в черных очах.
– Анна, ведь кроме того, что Веронези был авторитетным членом студенческого союза в Гейдельберге, в котором, как известно, бывших не бывает, он, кроме того, был настоящим, большим ученым… – Януш на мгновение запнулся, как будто его, как и меня, тревожили какие-то тайны, связанные с легендой нашего факультета, профессором Веронези, у которого мы оба учились, затем продолжил: – …ты же, надеюсь, и сама осознаешь теперь, что все мы, все – в какой-то степени жертвы его научных амбиций и его поисков Лоршских Евангелий – Золотого кодекса из Лорша!..
* * *
– …ты это серьезно, Януш? – продолжала импровизированный допрос я. – Ты действительно думаешь, что последняя работа Веронези по Лоршским Евангелиям была настолько значимой?
– Конечно! – Януш в волнении взъерошил волосы, замахал руками и в своих круглых очках стал похожим на смешную сову, внезапно разбуженную в сосновых зарослях. – Послушай, Анна, тут дело вот в чем…
Я вспоминала недавний разговор с Янушем, но нечто неуловимое внезапно заставило меня резко обернуться к экрану.