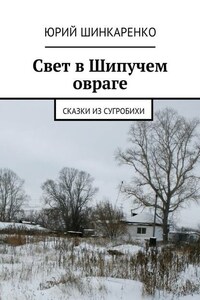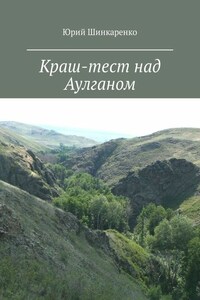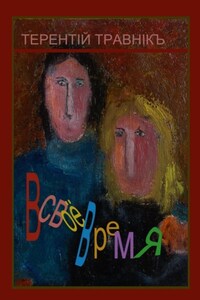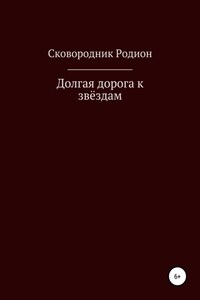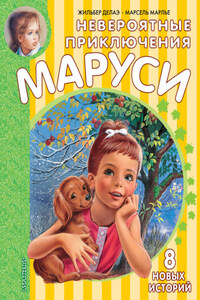Переводчик иного образа жизни
Символом поколения может стать и голос.
Впервые со всей яркостью это проявилось, пожалуй, в сороковые годы. Щупальца средств массовой информации – траурные чёрные «тарелки» – проникали в самые медвежьи углы. И не стало ни одного человека, кто бы ни слышал:
«Га-ва-рит Мас-ква! Га-ва-рит Мас-ква!.. Немец-ка—фашистские зах-ва-тчики астановлены на рубеже… Наши части перешли в наступление…».
То был голос Левитана. Символ торжественный и трагический. Он единил людей в порыве к национальной свободе, к отстаиванию национальной самобытности. Но в другие времена и в других обстоятельствах этот же голос постоянно напоминал о несвободе внутренней (внутригосударственной), о навязывании заимствованного у европейских мудрецов Учения, заставлял помнить топор тоталитаризма, нависающий над головами.
Для нынешних подростков голосов-символов много. Кто-то из них решит, что знаком юности, символом 80-х стали песни Цоя (Гребенщикова, Кинчева, Бутусова), кто-то сошлётся на «Белые розы». Не будет, естественно, обойдён вниманием уже чуть призабытый голос Михаила Сергеевича и набирающий силу глас Бориса Николаевича.
Но мне, простите за нахальство, все эти выборки кажутся не совсем верными, поверхностными. Они лишь частично связаны с мироощущением нового поколения.
Голос, который точнее выражает и это новое мироощущение, и глубинные причины его, – вот он:
«– Тазад! Поверни тазад! Тай мне руку свою, пратишка!..
– Таконец-то мы встретились!..
– Я те мог ратьше. Я представился той даме, которая пыла там. Ота прекраста. Ота соблаговолила мте помочь!».
Узнали этот голос, искажённый воспалением гайморовых пазух? Ну, конечно… Это тот самый голос, который значительно помог первому вкрадчивому проникновению в нашу жизнь западных видеофильмов… Голос, который дублировал на русский язык иностранную речь, прояснял чужие секреты… Голос, напрямую обращённый к подросткам, к поколению, вынужденному в конечном счете решать: принимать или не принимать перевод… нет, не фильма… перевод иного образа жизни. Жизни сказочно богатой, праздничной, яркой от дополнительных обёрток Голливуда, но всё же… всё же далеко не идеальной, ущербной в своём неистребимом индивидуализме.
Говоришь с ребятами и всё чаще чувствуешь: чужой образ жизни захватывает их, нас, страну.
ТАКОНЕЦ-ТО ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ, подростки и иноземная модель счастья?
Закончилось дождливое, тягучее, безденежное лето. Объявил себя сентябрь. Генкины приятели решили, что хватит валять дурку, пора делать миллион. Генка не возражал, но как сколачиваются миллионные состояния, он решительно не знал.
Объяснил Шараш. Шараш был самым старшим в компании и самым опытным. Он, хотя и неудачно, уже попробовал покрутить напёрстки на Центральном рынке. Шараш сказал:
– Я знаю одно место, где перед семафором отстаиваются поезда. Это в лесу, перед мостом. Глушь! А ещё там рельсы делают крутой поворот, – хвостовых вагонов из тепловоза не видно. Пару-тройку вагонов поставить – раз плюнуть. День поработаем – потом до старости пятикатками можно подтираться.
Шараш умел говорить красиво. А для Генки чем красивее – тем убедительнее.
На следующий день – хоть и был он дождлив – отправились за город. Товарняк как дожидался их. Шараш проницательно посмотрел в Генкины глаза и шёпотом спросил:
– Ну что, ковырнём вагончик?
Наверное, ему тоже было неуютно. А Генку колотил озноб. Чтобы не выдавать страха, он первым бросился к вагону. Как в драке: лишь бы начать, сделать первый удар, а там сворой налетят остальные.
Налетели… Мешая друг другу, тяжело дыша, принялись скручивать с двери толстую проволоку. Она не поддавалась. Шараш ударил по проволочному узлу ногой. Генка не успел отдёрнуть руку. Проволока поцарапала ладонь. Генка отошёл в сторону. Потом ещё подальше, к лесу. Затея перестала нравиться.
В вагоне оказалась сельхозтехника. В следующем – шины для тракторов. Но Шараш не отчаивался.
– Надо дождаться контейнеров «Морфлот», – сказал он. – Гадом буду, если там видиков не окажется.
Сели на поваленную сосну, скользкую от дождя. Стали ждать. От перестука подходящих поездов у Генки противно сжималось сердце. А когда товарняк отходил, Генка расслаблялся, как у стоматолога, объявляющего: «Здоров!».
Наконец вынырнул из-за ельника поезд со сцепкой «морфлотовских» контейнеров, изредка разбитых пустыми платформами. Контейнеры серебрились в сером воздухе – не луна ли над Эльдорадо? Шараш, не дожидаясь, пока поезд остановится, ринулся на штурм ближайших «Морфлотов». За ним – остальные. И Генка тоже.
На вагонной двери висела аккуратная пломба, небольшой, как в лото, оранжевый бочонок из пластмассы, с чёрным штырьком внутри. Красивая штука! Шараш сорвал пломбу, бросил её на насыпь. Генка поднял бочонок и сунул в карман куртки.
В контейнере стояли картонные ящики. На их боках чернели японские иероглифы. Генка мельком подумал, может, не зря он угревался здесь, может, действительно, день жизнь кормит? Он подхватил ящик, который ему швырнул Шараш, и бросился в лес. Коробка была лёгкой. И коробки в руках приятелей – не тяжелее, если судить, как легко бежали друзья за Генкой.
Отдышались. Разорвали коробку. В ней оказался… бензобак. Для «Тойоты», если верить английской надписи-дублёру на упаковке. В других коробках – то же самое.
Шараш лизал сбитые пальцы и возбуждённо расписывал:
– Завтра пораньше придём. С инструментами. Ты, Клён, возьмёшь отёртку. Генка – нож. Я домкрат притащу. И рукавицы не забудьте!