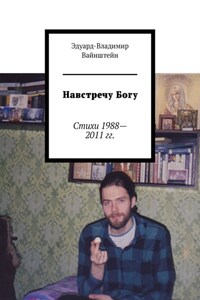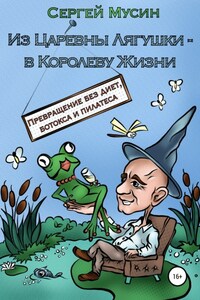Переулочек, переул…
Горло петелькой затянул.
А. Ахматова
Детдома и ларька соседство —
один из переулков детства,
где до сих пор покоя нет,
где время в склянках, время в банках,
в расспросах, слухах, перебранках —
меняется на горсть монет,
где моё детство побывало,
вставало в очередь, играло
ледышкой около ларька
и на детдомовские окна,
всегда затворенные плотно,
глядело из-под козырька,
где из пословиц миллиона
«Болтун – находка для шпиона» —
всего одну запомнил я,
где дядьки в кожаных ушанках
и тётки в сизых полушалках
искали крайних
и края
неведомые представляли,
края, простёршиеся дале, —
за телевышкой, за горой…
края, где я ни разу не был,
где явно закруглялось небо,
срастаясь с дымкой городской…
Такой обычный переулок,
где каждый шаг бывает гулок
и каждый шаг неповторим,
пространство, что в себя вместило
людские судьбы – судьбы мира,
и всё не расстаётся с ним…
В проулке за детдомом старым,
у пункта по приему тары
толпится, как всегда, народ —
что принимают, всё сдаёт.
Бездумно-мудрые старухи
иконно складывают руки.
Коричневые сумки их
полны бутылок дармовых.
У ног мешок со стеклотарой —
какой-то человек усталый
стоит, касаясь головой
клочка проблемы мировой.
А девочка с двухлетней дочкой —
со стеклотарой непорочной —
проблемы не касается:
дочь за подол цепляется.
У Марьивановны в авоськах,
как будто капельки на вёслах,
блестят стекляшки. Вся она,
как в мысли, в них погружена.
С ней рядом отставной полковник.
Чтоб миру о себе напомнить,
пришёл, принёс бутылок пять
как повод в очереди встать.
И вот – по очереди этой,
как кистью, временем задетой,
по очереди по живой,
текущей поперёк и вдоль,
передаются факты, мненья,
сомненья и опроверженья…
Стояние в очередях
не столь способствует мышленью,
скорее – семечек лущенью
и мутной мудрости в очах.
Стояние в очередях
ведёт к такому разговору,
который вспыхивает скоро
и увязает в мелочах.
И снова – лишь один зачах —
другой подобный возникает.
Такой порядок вызывает
стояние в очередях.
Рассказ – сочувственное «ах!»,
лихая шутка, злая ссора…
Моя пожизненная школа —
стояние в очередях.
Не различить издалека
очередей предназначенье…
Как терпеливо их теченье! —
как среднерусская река.
…И Марьивановна сказала:
– Уж больно ящиков-то мало, —
вздохнула, – могут не принять
посуду… —
замерла опять.
Забеспокоились старухи.
Одна шепнула:
– В одни руки
больше пятёрки не дают!
Остатки задарма берут!..
– Эх, мать! – прищурился полковник
светло, как довоенный школьник. —
Всё вам дадут. Без па-ни-ки!.. —
И засмеялись мужики.
И тут повеяло годами
иными. Из далёкой дали
какой-то силуэт возник,
иным очередям двойник —
в будённовке, косоворотке…
Нет, в гимнастёрке и пилотке.
Сначала встал за кипятком…
За кашей кирзовой – потом…
Вот – превратился в инвалида
в шинельке, офицерской с вида.
За ним в колонну встали вдруг
солдатки, дети, бабка, внук…
И как-то стало очевидно,
что лезть без очереди стыдно.
Но что же стало с переулком?
Раздвинулся? Совсем пропал?..
Наполнился гуденьем гулким
и – площадью базарной стал.
Из деревень пришли подводы.
К прилавкам встали кустари.
Толпа заполнила проходы.
И крики «Налетай! Бери!» —
как сизари, с земли взлетели!
Старьёвщик пел: «Берём старьё…»
И пайщик для своей артели
брезгливо выбирал сырьё.
Вот водовоз с дощатой бочкой!
А вот и Марьиванна с дочкой:
то ль продавала, то ль брала,
то ль на смотрины дочь вела.
– Хошь лясы, хошь ножи поточим! —
кричал точильщик тощий очень.
И удирал, не чуя ног,
малец, стащивший пирожок…
Детдом —
вновь делался трактиром.
И высилась над этим миром,
как поминальная свеча,
пожарная каланча —
которая потом сгорела
дотла.
Но разве в этом дело?
Другие времена мелькнули —
вдогонку просвистели пули.
Другие люди в свой черёд
пришли. Нет – в очередь скопились,
«Кто крайний?» – справились, столпились
и ждут, когда до них дойдёт…
А где же тот красноармеец,
в будённовке? Где тот лишенец
с извечным «Налетай! Бери!» —
страдавшие душой и телом
за правое, конечно, дело —
за угнетённых всей земли?
Где морячок с мечтой раздольной
о революции – не больно
какой, а сразу – мировой?..