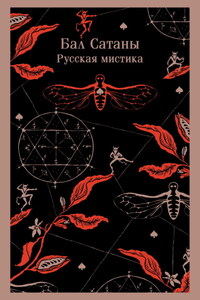Город О. как будто скучивался и словно оседал, по мере того как широкая лента шоссе спускалась на другую сторону пригородного холма. Исчезли два каменные старинной архитектуры столба с необыкновенно широкими основаниями и острыми вершинами, увенчанными местным гербом; по бокам шоссе тянулись еще загородные дворишки, лачуги, землянки… Близ дороги стояли маленькие столики, за которыми старые оборванные солдатки торговали квасом, калачами; с писком гнались эти бабы за проезжающими, вытягивая вперед руку с калачом; но тройки и перекладные пары стремглав проносились мимо их, и городские, проникнутые достаточным ухарством, ямщики, залихватски гуляя кнутом по ободранным спинам и бокам почтовых кляч, не упускали случая хлестнуть мимоходом и бабу с калачом.
Исчезла, наконец, последняя подгородная хибарка. От города виден только кончик соборного шпица – и целое море пыли повисло недвижимо в раскаленном полуденном воздухе. Исчез и шпиц. И пыль, висевшая над городом, исчезла…
Дорога. Идут богомольцы. Шоссе круто поворачивает налево, и тут же от самого изгиба его бежит старая столбовая дорога с ветлами в два ряда и с необыкновенно извилистым и узеньким проселком, извивающимся по всей ширине этой широкой зарастающей травою дороги. Проселок перебегает с одной стороны дороги на другую и чаще всего вьется под густыми ветвями ив; одинокие ивы разрослись и опустили чуть не до земли свои тревожно треплющиеся по ветру ветки; проезжий мужичонко нарочно прилег к телеге, чтобы не хлестнуло его; ветка не хлестнула, но тихо прошумела, пропуская между своими листьями и тощую клячу, и тощую телегу, и мужика. Кое-где густая сплошная масса зелени прорывается – видны попытки восстановить эти спасительные для пешеходов аллеи; но тощие и тонкие сучки, втиснутые в землю по приказанию начальства, в изнеможении попадали на землю, не имея возможности исполнить возложенной на них обязанности – давать путнику тень и прохладу. Кое-где валяется ветла, разбитая и опаленная молнией.
В полутора верстах от шоссейного поворота, по старой столбовой дороге, при начале довольно длинного леса расположился маленький поселок, состоящий из нескольких постоялых дворов, из которых иные очень зажиточны. Повидимому, в этой глуши на позабытой уже дороге не было никаких резонов существовать этому поселку – и притом еще существовать довольно весело (о чем свидетельствуют три кабака между шестью домами). Но оказывается, что резоны есть, и именно два: шлагбаум, или застава на шоссе, и непроходимый овраг на старой столбовой дороге. Шлагбаум тем содействовал процветанию поселка, что, пугая обозников разными взысканиями и пошлинами с лошади, с версты и проч., заставлял их объезжать лесом и старой дорогой; подгородные постоялые дворы поселка, не ломившие той цивилизованной цены за овес, сено и харчи, которую ломил город, привлекали сюда извозчиков, тем более что лошади, легко тащащие тяжелые возы по шоссе, смертельно уставали на мягкой дороге. Кроме обозников часто из прилеска ухарем выносилась почтовая тройка с офицером, тоже бежавшим узаконенной платы, – и в таких случаях все-таки поселку выпадала прибыль: празднуя свое избавление от шлагбаума, офицер и ямщик останавливались у кабака и подкреплялись. Такую же услугу оказывал поселку и овраг. Он пролегал по самой границе двух губерний, перерезывая собою большую столбовую дорогу, но моста через этот овраг, сколько запомнят столетние старики, не было никогда. Происходило это оттого, что мост нужно было строить натурою двум смежным деревням разных губерний. Дело всегда шло таким путем. Прежде нежели в чьей-нибудь голове рождалась мысль о необходимости моста, нужно было нескольким десяткам человек сломать себе шею и даже отдать богу душу. Результаты этих происшествий, путем разных инстанций, наконец доходили до центра той или другой губернии; центр убеждался в необходимости моста и сносился поэтому с другим губернским городом. Другой, смежный губернский город, не торопясь, делал дознание в местном волостном правлении: «действительно ли?» Местное волостное правление докладывало другому центру, что «действительно». Тогда оба губернские центры списывались и соглашались, что действительно мост необходим. После множества понуканий начиналось устройство моста натурою; но при этом случалось так, что одна губерния выводила свою половину тогда, когда первая этого не делала. Провалились еще несколько человек и повозок, и первый центр торопливо приступал к работам своей половины. Но в это время вторая уже сгнила и провалилась… Люди летели в бездну, следствия шли судебным порядком и т. д. Роковое место это было известно далеко, и скромные помещицы и, разные деревенские люди, проезжавшие в город по столбовой дороге, должны были делать большой конец, чтобы въехать на шоссе, и потом другой конец, чтобы избежать шлагбаума. Таким образом поселок процветал, и обыватели постоялых дворов его могли на досуге поддерживаться при существовании там кабака. Жизнь шла тихо, кое-как и не изобиловала ничем, выходящим из ряда вон. Такого же сорта будут и наши заметки об этом поселке.
* * *
Посреди поселка стоит дом русского мужика-барина, с такими признаками барства: железная крыша, а дыра в крыше заткнута соломой; комнаты большие с диванами красного дерева, но без подушек, с огромным барским зеркалом, в котором осталась только половина стекла; тут же «сляпанная» деревенским мужиком лавка, тут же и корыто с проросшим картофелем и с песком. На стене с лоскутками шпалер торчат лубочные картинки. Такое опустошение комнаты и вообще расстройство всего жилища, то есть раскрытые сараи, полное отсутствие замков там, где они необходимы, расколотые на дрова двери, сгнившие в две зимы рамы и проч., все это опустошение было произведено в самое короткое время «арендателем», которому настоящий хозяин сдал постоялый двор на два года. Хозяин, находившийся в это время в Петербурге в наездниках, был несказанно удивлен, увидав такое разорение.
Но он скоро успокоился, ибо столичная жизнь выучила его понимать всю силу выражения: «обвязался подпиской». Он был твердо уверен в силе воцарившейся законности, полагая, что законность эта непременно должна быть «против мужика», а к мужикам он теперь почему-то не причислял самого себя. Он служил наездником у какого-то графа, важные господа давали ему на чай, его рысаки получали призы, наконец чай и пиво он распивал не иначе, как с кучерами важных господ. Все это давало ему право думать, что он не мужик, а стало быть, и не может ни в чем проиграть по отношению к настоящему мужику-вахлаку. Вот почему он был совершенно спокоен, предоставляя себе право доказывать всему поселку, что петербургский человек целый день пьет и все-таки пьян не бывает; кроме этой способности, вынесенной из петербургской жизни, он в два года совершенно переродил свою внешность: клиновидная борода была тщательно подстрижена, почти под гребенку; лицо, обрюзгшее и отекшее от множества всякого рода чаев и питий, проглоченных им в столице, почернело, но сохраняло достоинство и гордость. На родине он не стеснялся костюмом: на голове был кожаный картуз, на плечах халат, ноги босиком. Глухая, под самое горло, жилетка и синие со складками штаны составляли весь его костюм. Немало также изменился он к жене. Пухлая баба в немецком платье не привлекала его взоров после столичных удовольствий; он даже был совершенно равнодушен к ее двухгодовому одиночеству, хотя и слышал, что что-то произошло этакое.