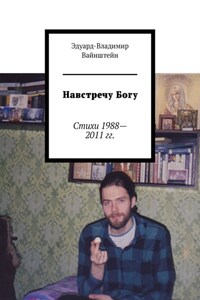Насквозь пропахший дынями июль…
Насквозь пропахший дынями июль
грозит – ещё чуть-чуть – скатиться в август
и с каждым днём всё понижает градус
полуденного зноя.
Карауль ладони лета, полные тепла
и южных специй, спелого инжира,
смотри, как воздух жарким солнцем выжжен
и источает сладость пахлава.
Дорога к морю выгнулась дугой.
Старик, играющий на дудочке лезгинку,
а дудочка из настоящей глины,
и звук выходит тоненький такой.
А дальше пляж, и галька горяча,
лежит рядком, как зёрна кукурузы,
и чайка, с неба опускаясь грузно,
качается у моря на плечах.
И бесконечно длится этот миг,
и кажется ничтожным всё и глупым,
когда волна по волнорезам лупит
и тихо дует в дудочку старик.
Можно по-разному возраст измерить:
по паспорту – тридцать восемь.
Мы же с тобой, родная, знаем:
мерилом всегда выступает осень
и то, сколько шагов в состоянии сделать
по мёртвым листьям:
вчера ещё чиркали воздух рыжим –
хвостами лисьими.
Можно считать по количеству книг,
прибавившихся на полке.
И если так, то мы с тобой древние старцы какие-то…
Правда, толку
мало. Тут важно: не сколько ты слов усвоил,
а сколько проговорил другому –
а для этого нужны двое.
Поэтому дай мне руку, родная. Идём в ноябрь.
Можно и в одиночку шлёпать по мёртвым тропам, но я бы
предпочла это делать с тобой.
И тогда мы зайдём достаточно далеко,
как будто нам снова по восемнадцать,
как в начале 2000-ых, когда абсолютно нечего было бояться:
ни за детей (у тебя – двое, у меня – двое),
ни за другое важное,
только ночные дебаты о смыслах,
в которых отважно мы
цитируем кто Достоевского, кто мрачного Кафку,
подчёркивая важность мысли
(ну, так, для справки),
пьём литрами чай, слушаем Цоя, убавив громкость,
ходим по кромке жизни взрослой,
по самой кромке,
и вот теперь, почти под сорок, заходим в этот ноябрь.
Можно молчать (время молчания – осень), но я бы
предпочла говорить с тобой.
Говори! Любое слово, тобою сказанное,
сядет синицей на мёртвые ветки.
И станет не страшно слушать
предсмертные всхлипы листьев, детка.
Какое время настало! Какое время – смерти подобное.
Чувствуешь, в 22-ом как мы продрогли?
Как же продрогли мы!
Сколько всего обрушилось
на наши головы, полные Цоем и Достоевским,
сколько опор разрушилось,
сколько ещё потрескивает!
Сколько синиц потребуется, да и всякой другой живности,
чтобы в этом лесу страшном как-нибудь да прожили мы…
Поэтому дай мне руку, родная. Идём в ноябрь.
Можно и в одиночку пройти эту дорогу, но я бы
предпочла проходить с тобой.
Я-то знаю: зима грядёт длинная…
Нескончаемо этот крест нести.
Выгибаются белыми спинами
Занесённые снегом окрестности.
Ни конца им, ни края не высмотреть.
Только снег за окном. Всюду снег.
И к крыльцу, как к последней пристани,
Пришвартуется чей-то след.
Вот и всё. Как в глубокой коме мы -
Оглушительный белый свет.
С неба валится белыми комьями
На поверженный город снег.
И не справиться с ним так просто нам -
Заметает по крыши дома.
И стоят жилища погостами.
Глянь, во всей России зима.
Я не выношу, когда просят
смеяться потише, отпустить модную чёлку.
А мне лоб нужен открытый,
я лбом упираюсь в осень и запираю её на защёлку.
Пусть сидит себе тихо в чулане лесов стылых.
Если удастся её приручить,
может, тогда я найду в себе силы
на вдох-выдох и сердце на разум помножу.
А пока она полыхает пожаром,
я не стану тихой, ничего у меня не выйдет.
Да и не нужно это, пожалуй,
осень меня до донышка выпьет.
Мне говорят: давай, залезай в рамки!
Не видишь что ли: все сидят по коробкам.
А я представляю себя машинистом крана,
который складывает эти коробки в стопки.
И вот эта квадратная многоэтажность –
непривлекательная перспектива.
Мне горизонт нужен, мне важно
видеть, как солнце встаёт красиво.
Оставьте мне моих тараканов,
не травите их «правильным» дустом.
У меня не сердце, а сплошная рана,
из которой текут чувства.
Эта осень сжигает дотла всё, дочиста.
Я бы, может, смирилась и даже зажглась сама.
И сгорело бы то, от чего избавиться хочется,
а пожарище бы потом занесла зима.
Но сжигай-не сжигай, а на голых ветвях обугленных
у рябин, потерявших в пожаре свою листву,
гроздья ягод то вспыхнут, то тлеют алыми углями,
и осенний костёр занимается на ветру.
Не затушат его ни метели, ни бури белые.
Собираются птицы к рябиновому огню.
Неслучайно, выходит, в природе так всё сделано:
не сгореть и не сгинуть вовек без следа ничему.
А ведь сердце твоё сокрушалось не просто же так!
Неслучайно случаются с нами такие вот вещи.
И оно покрывалось, как хрупкая скорлупа
Покрывается после удара, узорами трещин.
Видно, надо ему сокрушённым и треснувшим стать…
Не рождаются птицы из целых яиц, и листочки
У деревьев не вырастут (даже не стоит гадать),
Если вдруг по весне не раскроются трещиной почки.
Нужно дверь открывать, если ждёшь, чтобы в дом пришёл гость.
Нужно сердце держать – сокрушённым, но светлым, и добрым.
Может, в трещины эти, как в двери, заходит Господь.
Может, трещины эти нужны – войти ему чтобы.
Обманут или обворован:
в шеренги выстроив дома,
уходит город в оборону,
когда на подступах зима
готовит долгую осаду.
Качает город головой,
ему и горько, и досадно:
уже проигран первый бой.
Был точен самый первый выстрел
осенних заморозков. Вон
легли отряды павших листьев.
Давай, считай теперь урон.
И тот – от будущих сражений –
включай навскидку в общий счёт.
Мы столько терпим поражений!
Из года в год, из года в год.
Но знаешь, мы непобедимы,
пока не кончилась война.
Как и зима, неотвратимо
заходит в города весна.
А помнишь: кривые одесские улочки…
А помнишь: кривые одесские улочки
Разбитой брусчаткой спускаются к морю.
Шагаем туда и хохочем, как дурочки,
А солнце сжигает одесские кровли.
Ты помнишь: песок нам подошвы ошпаривал,
И волны шипели на ржавые камни.
Ты села и волосы ветру подставила,
И белые галочки – чайки над нами.
Ты помнишь: горчичное солнце как плавилось,
Медовым загаром ложилось на плечи.
Ты знаешь, такие моменты, как правило,
С тобой остаются надолго. Навечно.
Как пили вино из бумажных стаканчиков,
Сметаной лечили сгоревшую кожу,
Как волосы ветер сдувал одуванчиком,
Я помню и знаю, что помнишь ты тоже.
И пусть мы разъехались в разные стороны,
И стали звонки телефонные реже.
Ошпарены зноем, просолены штормами -
Одесские пляжи и чайки всё те же.
А на юге-то солнце – дыня напополам…
А на юге-то солнце – дыня напополам,
В сердцевине – медовое, к краю – уходит в лайм.
И лучи непременно стремительны и прямы.
Никаких – по касательной или пункти-рами.
Никаких тебе полутонов и полутеней.
Ровно в девять за линию моря уходит день.
Кипарисы – как стрелы, знающие тетиву,
Так прицельно и смело врастающие в синеву.
Все дорожки приводят к морю, куда ни пойдёшь.
Перельётся в ливень любой моросящий дождь.
Каждый снимок контрастный и чёткий – почти негатив.