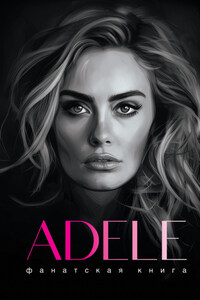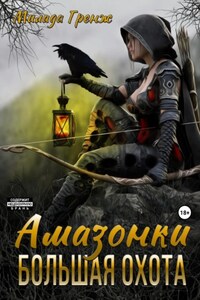Д. Хармс
Автор этих лекций – игумен Петр Мещеринов – богослов, историк церковной и светской музыки, переводчик немецкой духовной литературы. Выпускник Московской консерватории, практикующий музыкант, пришедший к христианской вере и служению благодаря музыке Баха, игумен Петр как никто рассказывает о совершенстве музыки Баха. Бах в этих лекциях – вершина музыки, к которой идут все ее смысловые пути, а дальнейшее ее развитие потребовало бы другого курса лекций, который, возможно, еще будет. Игумен Петр – переводчик всех текстов духовных произведений Баха: такую работу до него не проделывал никто.
Для игумена Петра очень важна немецкая духовная традиция: его переводы протестантских наставников благочестия Валентина Вайгеля и Иоганна Арндта стали событием для всех, кому важно понять судьбы христианской духовности в Новое время, увидеть претворение немецкого благочестия у Тихона Задонского, у которого Арндт был настольной книгой, и других православных писателей. У немецких духовных писателей работа христианина над собой требовала постоянной открытости сердца Богу и ближнему, аскетика становилась столь же ответственным делом, сколь ответствен музыкальный концерт, и при этом она была движима только небывалой любовью, как музыкальное сочинительство.
Реформация для игумена Петра – не столько победа морали над искусством, сколько наоборот, победа ответственного стандарта жизни и размышлений над собой, который косвенно и привел к развитию музыки. Музыка перестала только обслуживать календарь и праздники, перестала делиться на практические употребления, частные способы вовлечь в действие и переживание, она стала частью внутренней жизни человека. Протестантизм, критично относясь к светской музыке и настаивая при этом на первоначальной греховности человека, сделал путь к Евангелию путем не просто переживания отдельных эпизодов, их оформления, но напряженного созерцания. Поэтому православный священник, автор этих лекций, видя все трудности протестантизма, воздает ему должное как необходимому этапу для перехода от средневековой музыки к классической. Музыка барокко, как реформационная, так и контрреформационная, оказывается не просто «этапом развития», но самым необходимым этапом в истории музыки, самым необходимым для ее созерцательности.
Строение этих лекций необычно – по сути, это exempla, примеры, как бывают примеры для проповедей. Текст лекций, представляющий собой расшифровку курса, прочитанного автором специально для православного портала «Предание», сопровождается музыкальными фрагментами (в этом издании даны ссылки на сайт «Предания», где читатели могут их в любое время прослушать), но сами лекции – не комментарий к услышанному, не объяснение для профана, но, наоборот, рассказ о том, как работает музыка, как из ее смыслов получаются столь прекрасные произведения.
Конечно, любой музыковед знает, как духовная музыка «повлияла» на классическую симфоническую, и расскажет про развитие техники, значение полифонии и ее контрапункта, инструментовку и многое другое. Но у другого музыковеда мы в лучшем случае останемся наедине с музыкальными изобретениями, на какое-то время восхитившись ими. Автор этих лекций – смысловик, как сказал бы Мандельштам, убедительно показывающий, что симфоническая музыка – это раскрытие того доверия к слушателям, того надолго задуманного разговора, которым и стала духовная музыка. Бах – уже совершенство доверия, и последующие композиторы продолжают плодотворный разговор с исполнителями, инструментами, слушателями и вечностью так, как задумал и научил этот великий мастер. Мысль эта звучит громко (простите за музыкальную метафору), поэтому попробую и пояснить ее в предисловии, воздав благодарность игумену Петру за всю ошеломительую ясность изложения.
Излагать историю музыки сколь-либо длительного периода гораздо труднее, чем историю литературы и живописи. Прежде всего, сломы в музыке были радикальнее, чем в других искусствах – между Гийомом де Машо и Бетховеном гораздо меньше общего, чем между Данте и Достоевским: если литературный сюжет строится сходным образом во всей западной литературе, то сами основания, по которым звучание становится произведением, в истории музыки менялись. Рядовой любитель музыки, слушая греческое пение, современное церковное или реконструкцию античного, сразу начинает подозревать в нем что-то «восточное», не задумываясь о том, что на самом деле Платон или Иоанн Златоуст слушали именно такую музыку, тогда как гармоничные торжественные симфонии, которые мы считаем «классикой», столь же далеки от начального понимания музыки, сколь инсталляции из музея современного искусства – от станковой живописи.
Во-вторых, само слово «классика», проясняющее происходящее в литературе или архитектуре, в музыке сбивает с толку. Мы понимаем, почему классики Гёте или Пушкин – потому что они так же писали трагедии или лирику, как образцовые античные писатели, так же продумывали характеры, конфликты и обстоятельства. И пусть «характер» в эпоху Просвещения стал пониматься совсем иначе, чем прежде, все равно готовая сетка жанров и стилей удерживала прежнюю норму высказывания, превращая точность в мастерство. А что значит «классик Моцарт», если экспериментальны равно его оперы, симфонии да любые жанры, как экспериментально его частное и публичное поведение? А не зная содержание понятия «классика», невозможно развернуть историю искусства как смысловую последовательность.
Далее, историк музыки всегда склонен изучать музыку как преобразование идей в звуковые образы: ему или ей обыкновенно достаточно расширить круг идей, чтобы все традиции и новации музыки были объяснены. Легче всего написать, что средневековые сочинители и исполнители музыки знали Пифагора в изложении Боэция и знали, что ангелы поют и музицируют, во всяком случае, когда движут небесные тела. Так же легко написать, что Моцарт знал и перелагал масонские идеи, а Вивальди или Гайдн, сочиняя «Времена года», представляли те или иные живописные аллегории четырех элементов. Все это будут интересные построения, но проблема в том, что если о влиянии идей на литературу можно говорить, потому что литература сама заявляет, когда именно она дает выразительные образы и подражает живописи (ut pictura poesis), то все музыкальные «образы» и «идеи» – достояние лишь нашего слуха. Даже если композитор скажет вслух, какая отвлеченная мысль или, наоборот, какая в точности увиденная сцена его вдохновила, мы можем ему доверять не больше, чем исследователю, которого кофе вдохновляет к дальнейшим свершениям. Кроме того, идеи не сразу становятся достоянием культуры, и не получится ли, что мы припишем сочинителю развертывание той идеи, которая только позднее настолько стала достоянием образованного общества, чтобы ее можно было воспринять и в музыкальной форме?