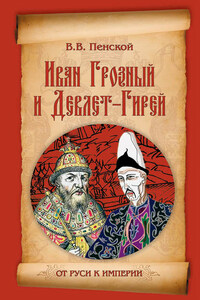Когда я поняла, что горя мне не избежать, я сказала: тогда пусть это будет Израиль. Ну, во-первых. На карте расстояние от Москвы до Тель-Авива приблизительно такое же, как до Новосибирска, с мою ладонь. Поэтому получается, что дети будут на кончиках моих пальцев, а уедь они в Америку там, Канаду?.. Какие же пальцы надо иметь!
У первого мужа от волнения голос зафальцетил как у подростка, которого напугали. «Ты сошла с ума!» – сказал он с удовлетворением, из чего я заключила, что эта выношенная и готовая к реализации мысль горло ему распирала давно, но, что называется, не было случая сказать. Я ответила ему: расстояние с ладонь, проверено на карте. О чем говорить? Голос бывшего мужа стал еще тоньше, как будто на глазах (на ушах?) он превращался из испуганного подростка в младенца. В нем включился обратный ход времени, и надо было успеть понять его последнюю взрослую мысль на исходе окончательного превращения.
Выпискнулось! При чем тут они, дети? Тем более, если уедут. Речь идет о нас, о тех, кто остается. Думала ли я – идиотка, кретинка, эгоистка, идеалистка, задница, сволочь – об этой стороне дела? Как мы будем объяснять тем, кому надо, если нас спросят? Ты же не думаешь, что эта демократическая вольница будет вечно? Она кончится, она уже кончается. А ты останешься навсегда повязанной не с Америкой, а с государством, с которым нет отношений (тогда их действительно не было). При чем тут твоя ладонь? Да будь хоть мизинец, хоть ноготь!
Потом эта тема возникала в разговорах с разными людьми. Эдакая бесконечная вариация оттенков, нюансов – и все в основном черного… Куда угодно, но не в Израиль. Мало ли что? Вон Бродский (Бродский!) не захотел там жить. Севела. А ничего себе мужики, с именами. А эти из «Литературки» – Перельман и Суслов, первопроходцы эмиграции. Где они сейчас, где?
Кстати, не зная их, я очень хорошо помню, как все было. Я тогда тоже была своеобразной эмигранткой: в Москве – из периферии. И могу поклясться: ломка, которая была здесь со мной, вполне сравнима с проблемами истинных эмигрантов. Ну и что, что язык тот же? Разве на одном и том же языке не говорят по-разному? О! Это такая трагедия – разный общий язык! Лучше бы уж мычали рядом или пересвистывались.
Так вот, в этот мучительный мой эмигрантский период, в том моем состоянии «чиканос», слуха коснулась весть: два крутых мэна «Литературки» навострили лыжи. И захлебнулась свободолюбивая «Литературка» кашлем. Я боюсь путаницы во времени, но в сегодняшнем восприятии все было одновременно. Тогда же за границей остался писатель Анатолий Кузнецов.
Хорошо помню дрожащий подъязычок распахнутого рта одной сотрудницы, которая «на основании последних текстов» бежавшего Кузнецова доказывала нам, что он бежал дано. Так сказать внутренне. Внутренний эмигрант. Я услышала впервые эти слова; в узком и темном коридоре «Литературки» вертели на пальцах ключи от своих келий тогдашние ее дамы и господа, и от них от всех шел жар. Меня это не касалось, я была чужой в этом бомонде, но жар чувствовала. Оставшись одна в кабинете, я даже пыталась разложить этот жар на огни и угли. Потому что сгорали друг в друге зависть и злорадство, гнев и надежда. Да мало ли что еще.
«Эх вы! – думала я, наблюдая за пышущей толпой. – Недоумки!» Они все казались мне живущими мимо жизни. Разве знали они, как корчится в муках провинция, уже равно не различая, смерть ли это или роды. Как пытается соответствовать своему представлению как должно тамошняя интеллигенция. Как она стыдится своего аппетита, потому что на периферии уже дано ничего не было и, приезжая в Москву, чеховские сестрички набивали чемоданы крупой и макаронами, а не Белинским и Гоголем. Моя родная тетка, вскормленная столовой на Грановского, криком кричала на мои продуктовые узлы. Мне же надлежало сходить в музей там, мавзолей, а я скупала супы в пакетах на Сретенке.
И если у кого-то получалось – корни рвали безжалостно. Из моей ростовской редакции шестидесятого года – девяносто процентов тут. Из волгоградской – треть.
Это была эмиграция. Выход на чужбину Москвы. Это была проба сил. И когда моя родная периферия тронулась с места, Москва трогалась с места тоже.
Одни эмигранты стали занимать места других. Ну хорошо, ты пробил головой стену в камере, что ты будешь делать в следующей? Ох, этот Ежи Лец! Откуда он все знал?
Но я возвращаюсь к моменту пересечения собственной эмиграции с, так сказать, настоящей, истинной. Потому что какая мы (периферийные) к черту эмиграция, мы совсем другое слово, которого тогда еще не было, но которое уже рождалось. Лимита. Рабочая. Интеллектуальная. И более того, даже партийная – с квартирой и прокормом, но тем не менее… Но это а пропо… А я о дрожи земной коры, которая не вчера возникла и не завтра кончится, истоки которой в поисках спасения, в том безотчетном желании «бежать», которое стучит-постукивает в самом средостении нашей жизни.
Прадед моего сына по отцовской линии бежал из Чехии в Россию в поисках крестьянской земли.
Мой дед бежал от земли в город, открещиваясь от крестьянского умения и дела.
Мой отец бегал в тридцатые по стране из региона в регион, боясь засидеться и «застрять».
Мой отчим (отец-то бегал) убежал в Тбилиси с Волги от скорняжьего ремесла, боясь быть обвиненным в частном бизнесе.
Предки носились по земле как оглашенные и – да поможет им Бог на небе – не обрели на этом свете ни достатка, ни покоя.
И вот мой сын в девяностом году сказал: «Тут жить нельзя». И я сказала ему: «С Богом!»
В конце же шестидесятых я верила, что мой приезд в Москву остановил этот запальный шнур, и мы осядем, пустим корни. Потому что созидание требует покоя и места. Как же я всегда хотела покоя и места!
… – Только не Израиль, – кричал бывший муж. – Нашла место! Надо искать пути в Америку.