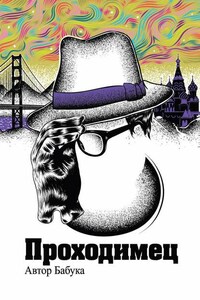Человек в черном свитере, сидящий в засаде, был терпелив. Шел уже второй час его ожидания, а он все сидел на бесформенном деревянном обрубке между гаражами и не сводил глаз с окон квартиры, которую высматривал, и даже не менял позу, лишь изредка поворачивал голову, разминая шею.
Вокруг спал обычный московский дворик. Большинство окон четырех массивных домов, построенных в пятидесятые годы прошлого века, были темны. Только в нескольких тускло мерцал неверный голубоватый свет. Либо горели ночники в детских спальнях, либо увлеченные жильцы не могли оторваться от ночных телепрограмм. Скамейки, стоящие у подъездов, были пусты, вдоль тротуаров замерли автомобили, в песочнице валялся забытый детский велосипед. Была середина сентября, воздух по ночам был уже свеж и морозен. Холодный ветер гнал по земле шуршащую бумагу, раскачивал фонари и толкал качели, которые мерно поскрипывали, заставляя сидящего между гаражами оглядываться и проверять: не идет ли кто?
Мужчина взглянул на часы. Четверть третьего. Окна в интересующей его квартире погасли в половине двенадцатого. Он прекрасно понимал, что должно было происходить в квартире после этого. Обитатели приняли душ и забрались в постель. Возможно, сразу заснули. А может быть именно сегодня им приспичило заняться любовью. На это сидящий в засаде был готов отвести им целый час. Ну, пусть полтора. Значит, минут сорок назад обитатели квартиры выпустили друг от друга из страстных объятий и сейчас крепко спят.
Мужчина вышел из убежища, огляделся – никто ли не появился по дворе, и перебежал через детскую площадку к одному из домов. Правой ногой он встал на заранее приготовленный камень, левой оттолкнулся и зацепился руками за подоконник первого этажа. Подтянулся, встал на выступ, идущий вдоль всей стены дома, и заглянул в окно.
Несколько секунд мужчина всматривался в темное пространство комнаты, пытаясь убедиться, что она пуста. Он прижимал лоб к стеклу, закрывался от света уличного фонаря рукой в черной перчатке. Затем рука поползла вверх, толкнула створки окна, и они беззвучно растворились. Мужчина подтянулся на руках, закинул ногу на подоконник, затем другую и проник в комнату полностью. Несколько мгновений он постоял на коленях на подоконнике, обернулся, оглядел улицу и, убедившись, что его никто не видит, оперся на руки и мягко спрыгнул в комнату. Затем закрыл окно и опустил шпингалет. Рукавом черной рубахи он протер подоконник, затем еще и еще раз, пока не убедился, что все следы его проникновения уничтожены.
Покончив с подоконником, мужчина прямиком направился к большому письменному столу справа от окна. Выдвинул средний ящик, достал пухлый пакет и бережно уложил его во внутренний карман черной куртки.
Мягко ступая на цыпочках кроссовок, мужчина пересек комнату и вышел в коридор. Прошел мимо спальни, бросил короткий взгляд на ее открытую дверь. На широкой кровати спали мужчина и женщина. Стоявший на тумбочке ночник бросал на их лица синие отблески света. Разметавшиеся по подушке рыжие волосы женщины приобрели темно-вишневый оттенок. Рука спящего мужчины лежала на одеяле, сползшем с груди женщины. Гость в черном на мгновение остановился, бросил короткий взгляд на белоснежную кожу, увенчанную розовым соском, но женщина шевельнулась, и он поспешил дальше.
У самой входной двери мужчину в черном остановил непонятный звук. В глубине квартиры что-то коротко зарычало, и мужчина замер. У него в голове пронеслась мысль: «Неужели собака? Но откуда? Ее же никогда не было». Он успел повернуть голову, и в это время часы, висящие в коридоре, издали громкий звук, нечто среднее между ударом колокола и первым аккордом «Аппассионаты». Мужчина облегченно перевел дух. Половина третьего. Часы тяжело вздохнули и затихли. Мужчина быстро открыл дверь и шагнул за порог. Придерживая дверь двумя руками, он мягко закрыл ее и надавил на ручку, пока не услышал, как щелкнул замок.
Небольшое пространство кабинета было заставлено мебелью настолько плотно, что было неясно, как здесь вообще можно перемещаться. Один угол занимал большой рабочий стол, в другом с трудом помещались диван, обитый серым вельветом, кресло и журнальный столик. Высокие книжные шкафы полностью закрывали две стены. На плотно стоящих кожаных переплетах отражался свет люстры, причудливо изогнутой в виде виноградной ветви. Отдельное место занимал еще один столик, на котором под настольной лампой была развернута книга внушительных размеров. В дополнение ко всему, средневековым замком высились напольные часы, непонятно каким чудом втиснутые между креслом и столом. Вокруг журнального столика сидело три человека. Один из них, сухонький старичок в байковой домашней куртке и старомодной профессорской шапочке, только что закончил говорить. Он отодвинул от себя большой блокнот и отпил чай из стоящей перед ним чашки. Рука старичка, несущая чашку ко рту, чуть подрагивала. Но не оттого, что он был немощен. Напротив, он был бодр и в его глазах читалась решимость многое сделать в этой жизни. Просто сказывалось возбуждение от только что произнесенной речи. Глоток темной, чуть горьковатой жидкости, казалось, его успокоил. Старичок вернул чашку на стол и поднял глаза на собеседников – грузного мужчину с зачесанным набок большим чубом, из тех, что в советских парикмахерских называли «хулиганом», и женщину средних лет со строгим и жестким взглядом серых глаз, странно контрастирующим с ее полными щеками и ярко выраженным двойным подбородком.
Когда-то все трое жили в Новосибирске и работали в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения советской Академии наук. Старичок в академической шапочке, по фамилии Парусников, был тогда подающим надежды ученым и заведовал отделом. Мужчина с чубом и женщина со строгим взглядом были его аспирантами, любимыми учениками, которых он в порыве чувств называл «продолжателями дела». С тех пор прошло почти полвека. Старичок в профессорской шапочке еще до развала СССР уехал в Москву, где из «подающего надежды специалиста» превратился в «маститого ученого», стал заведующим кафедрой археологии Московского государственного университета. Полный мужчина, которого звали Даниэль Крейман, уехал в Израиль, жил там в городе Тель-Авив и преподавал в местном университете. И только Изабелла Мирошниченко осталась в Новосибирске, где и работала до сих пор в том же институте, который каждый из собравшихся считал своей “alma mater”. Сейчас они собрались вместе, в квартире профессора Парусникова, по его настоятельной просьбе. Несколько дней назад Изабелла и Даниэль получили письма с просьбой как можно быстрее приехать в Москву. Прочитав письмо, под которым стояла подпись: «Всегда ваш, Анатолий Парусников», и он и она долго размышляли. Ни Изабелле, ни Даниэлю не хотелось бросать все дела и отправляться в дальнюю дорогу. У каждого из них были свои «за» и «против», которые надо было тщательно взвесить. Мирошниченко заканчивала монографию о жизни малых народов Сибири. Рукопись ждали в «Вестнике Сибирского отделения Академии наук», и она собиралась посвятить ближайшие три недели работе, которой была увлечена. У Креймана проблем с работой не было. В Израиле начиналась череда осенних праздников, студенты были отпущены на десятидневные каникулы. Но у него были семейные причины отказаться от поездки. У старшего сына Даниэля Креймана должен был вот-вот родиться первый ребенок, и профессор не хотел упустить поездку в роддом, где он рассчитывал взять наконец долгожданного внука на руки.