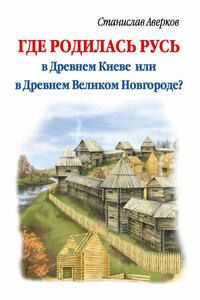В то лето как никогда ранее у меня призывно, но неприметно для окружающих с упрямым постоянством и настырностью поскуливало на душе что-то незнакомое, немного грустное. Что именно – я и сам не знал. Было и какое-то смутное, неудержимое стремление к чему-то новому. Я желал каких-нибудь ярких перемен в своей жизни. Мне было уже семнадцать и мне казалось, что живу я как-то не так. Не так как хотелось, как мог бы. Впрочем, в ту славную пору я был по-юношески мечтателен и как все в этом возрасте склонен к ярким фантазиям.
Между тем школа – самая обычная городская десятилетка со всеми её писанными и неписаными уставами и примелькавшимися прелестями – была благополучно преодолена. Она осталась, можно сказать, позади, уже навсегда в прошлом, а экзамены в институт к удивлению и большому разочарованию моего отца позорно провалены – я подавал надежды на скорое поступление в престижный экономический, потому что учился хорошо и к тому же, отвечая на вопросы о своих помыслах и планах, умел составить о себе вполне благоприятное впечатление.
По правде сказать, меня не очень-то удручала сама неудача со вступительными экзаменами, трагедии из этого я не делал: «Ну, подумаешь, в этом году не поступил – в следующем поступим». Но жизнь моя всё ж была теперь, по крайней мере на ближайшую перспективу, достаточно неопределённа и по образному выражению отца «зияла неприкаянностью и пустотой».
Заполнить эту «пустоту» отец рассчитывал осенью освобождающимся местом ученика в крупном автосервисе, где у него имелись какие-то связи. А чтобы я не болтался почти всё лето без присмотра (время пионерских и спортивных лагерей отошло теперь вместе со школой в прошлое), он решил отправить меня к своей сестре в небольшой прибрежный городишко, что находился от нас ни много ни мало почти в полутора тысячах километрах. Наверно он надеялся, что родной и близкий ему человек, имевший к тому же богатый педагогический опыт, сможет глубже понять меня, особенно мой, как он полагал, ещё не устоявшийся характер и неким образом повлиять на него, чтоб уже к осени я был, если не образцовым джентльменом, то хотя бы более рассудительным, более целенаправленным, что ли, в своих устремлениях, и не отмалчивался, когда, к примеру, ему хотелось поговорить со мной о чем-нибудь с доверительно-участливой откровенностью, так сказать, по душам.
Должен заметить, что свою единственную тётушку я почти не помнил и к своему стыду, всецело погруженный в водоворот своей беззаботной жизни, вспоминал о её существовании только в праздники и в дни своего рождения, когда она присылала подарки, тщательно упакованные в прочную вощеную бумагу с обязательными по тем временам перевязями шпагата и неровно застывшими печатями сургуча. В этих небольших, но увесистых почтовых отправлениях почти всегда я находил стопку подобранных для меня книжек и непременно набор шоколадных конфет, а бывало, и какой-нибудь скромный сувенир в виде диковинной морской раковины или угрожающе растопыренной клешни краба, а то и просто незамысловатый кругляш пятнистого камешка, – всё, так или иначе, связывалось с морем, солёный вкус которого я только и помнил.
Иногда после очередной посылки я мысленно благодарил свою добрую далёкую тётю, отсылая ей воздушные приветы. В эту минуту я даже как будто видел её, вернее её образ, который почти абстрактно утвердился в моём сознании в основном благодаря совсем не частым обмолвкам отца, а также дюжине фотографий в семейном альбоме, в числе которых были и те, слегка обозначенные желтоватой вуалью времени, где я, пухлощёкий крепыш, уцепившийся руками за её юбку, а потом и на её коленях пытался гнуть какую-то свою линию, капризно закусив нижнюю губу.
Мягкий с необыкновенной теплотой взгляд её, всегда открыто устремлённый со старых фото, безусловно, указывал, что она была по-настоящему добра и, конечно, излишне баловала меня тогда. Сейчас же одинокая и уже немолодая женщина, она жила только своей работой. Звали её Зоя Дмитриевна, и работала она директрисой в каком-то местном учебном заведении, пользуясь там, как, впрочем, и во всём своём небольшом городке, вполне заслуженным авторитетом и уважением.
Отец, в связи с моим уже скорым отъездом к ней, часто вспоминал её и, конечно, не упускал случая напомнить мне как следует вести себя вдали от дома и что мне вообще позволено в гостях. Он почему-то полагал, что по приезду я сразу же займусь битьём стекол и витражей в окрестных домах, наводя первобытный ужас на мирных обывателей. Или начну выяснять отношения с местными хулиганами и непременно подерусь… или же, чего доброго, напротив, сдружусь с ними, что также не входило в его планы. И я, слушая его наставления и участившиеся спичи о тётушке, особенно о её особом педагогическом даре и неиссякаемом терпении, и то, что в своём заведении она практикует необычайно действенную систему воспитания, которая, как подчёркивалось высокими нотками в голосе отца, весьма полезна была бы и мне, вдруг поймал себя, что, несмотря на предвкушение приятного южного времяпровождения, почему-то начинаю испытывать неуверенность и даже некоторую робость перед самой встречей со своей далёкой родственницей. Невольно я начинал представлять, как моя добрая и, несомненно, всей душой любящая меня тётя сразу же мягко и в то же время непререкаемо и властно ограничит мою свободу и с неумолимой методичностью начнёт повышать мой общеобразовательный уровень до недостижимых высот её образцово-показательного заведения.
К тому же выяснилось, что отец уже успел сообщить ей о моём неожиданном фиаско на вступительных экзаменах, чем наверняка решительно настроил её заняться ревизией моих школьных знаний, а попутно навсегда воодушевил на бескомпромиссную борьбу со всеми моими недостатками и пороками, которые, воображал я с незаметно всплывшим сарказмом, конечно, уже обнаружены ею за тысячу с лишним километров.
Как бы там ни было, я стал собираться в дорогу, уже зная, что тётя с нетерпением ожидает моего приезда и, вероятно, во всеоружии готова встречать единственного племянника в своём далёком южном городке.
Собирался я недолго. Самые необходимые вещи легко уместились в моей большой спортивной сумке, где вскоре также легко нашлось место и для увесистого подарка – альбома цветных репродукций средневековой итальянской живописи, который мы с отцом присмотрели в книжном магазине. Тётушка, по словам отца, всю жизнь увлекалась собиранием такого рода книг.
Изумительно роскошный альбом, обёрнутый золотистой подарочной бумагой и перевязанный яркой пурпурной лентой, мне полагалось торжественно вручить с краткой умной речью, которую по замыслу отца я должен был придумать экспромтом, чтобы показать ей, что ещё не всё так безнадёжно со мной.