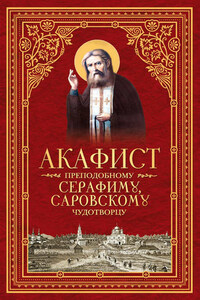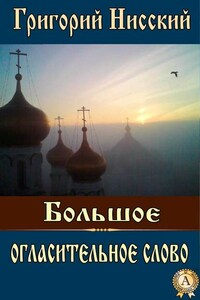1.
Панёк любил борское кладбище. Всегда, когда было время, он брал велосипед, старый дребезжащий «Урал» неопределённо-облезлого цвета, собирал рюкзак: хлеб, сыр, луковицу, бутылку воды, соль в баночке из-под таблеток, мятую армейскую фляжку с водкой и нож-складешок, и ехал по объездной, уворачиваясь от ям в асфальте и обгоняющих его грузовиков, к кладбищу «номер один», благо от дома было недалеко, минут двадцать, если поднажать на педали. Зимой ходил пешком, но редко, а летом – всегда на велосипеде. Автобусом не ездил, не любил ждать желтый мятый «скотовоз» с номером пять на лобовом стекле и на боку, не нравилось ему толкаться там рядом с вечными бабками.
Летом на кладбище было хорошо. Могилы были старые, многие заросли травой, было много деревьев и кустов, и в их тени Панёк скользил по дорожкам, ведя велосипед «под уздцы», и слушал птиц. Те пели о жизни, невидимые в густой листве, Панёк катил тихо, кажется даже уговорив «Урал» не слишком жаловаться на старость, и слушал эти песни, поглядывая по сторонам. У раздвоенного пенька сворачивал на проход номер тринадцать, шел под сгустившимися кронами, где птичий гам достигал своего крещендо, и даже немного пытался дирижировать, вырисовывая слышную только ему мелодию левой рукой, отрывая ее от руля. Потом сворачивал опять, с асфальтовой дорожки уже на узкую грунтовую тропинку, шоркаясь об оградки или цепляя их же с другой стороны педалью, пробирался к большому тополю, наполовину обломанному ураганом, согнувшемуся в три погибели аркой над тремя могилами, но живому, в отличие от тех, кто там, под этим тополем, лежал.
Могилы были убраны – трава подстрижена, ограды ровные, памятники не перекошенные, всё чин-чинарём. Даже столики и лавочки в ограде стояли ровно, напоминая ему постовых солдатиков у грибочка, как в его юности в армии. Он тут всё убирал и поправлял сам, раз в месяц, иногда в два месяца, прихватывая дополнительно в рюкзак лопатку, молоток с гвоздями, тяпку и секатор, иногда банку с краской и кисть. Панёк прислонял «Урал» к ограде, скрипел дверцей и садился за столик возле металлической пирамидки, доставал трубку, набивал ее махрой и затягивался вонючим дымом, с наслаждением вытянув ноги и облокотившись о стол: «Ну, привет, батя! Заждался?»
С фотографии смотрел крепкий красивый мужчина, возраста Панька, где-то за пятьдесят, в костюме, с галстуком, в губах пряталась усмешка, и эта фотография отца нравилась Паньку больше всего. «Живая» – говорил он матери, когда она еще выезжала иногда на кладбище, попроведать мужа. Мать кивала и заводила свой вечный разговор о душе, что всегда живая, и о бренной плоти, «которую все мы скинем однажды, чтобы предстать пред Богом, ты бы помолился, Пашенька? И отцу станет хорошо и тебе…» Панёк морщился, махал рукой, уходил от могилки, оставив мать, которая, кряхтя, опускалась на колени, в травяную подушку, запускала руки в такую же траву на могильном холмике, и разговаривала с мужем, а он ходил неподалёку, поглядывал на эту картину, злился и ждал, когда мать поднимется с колен и начнет устраиваться на лавочке. Теперь, уже много лет, мать выбиралась сюда только раз в год, с его помощью, на такси, зато он, приходя регулярно, подхватил этот внутренний диалог, рассказывая отцу о прожитой неделе, о мире живых, о том, как постарела мать и всё время сетует, что Бог «никак её не заберет к Колюшке».
«Слышишь, батя? Соскучилась мамка по тебе. Ни на дачу выбраться, ни в магазин сходить, по дому ковыляет кое-как, протирает книжки в шкафу, а читать уже не может, не видит. Только фотографии семейные смотрит в увеличительное стекло…» Николай усмехался Паньку с фотографии, будто знал какую-то тайну, и не отвечал. Панёк кивал, доставал из рюкзака фляжку и кружку, резал луковицу и хлеб, солил, наливал и, выдохнув, выпивал-закусывал, стряхивая крошки на землю. Потом снова раскуривал трубочку и закрывал глаза, вызывая в радужном начинающемся кружении хмеля, картинки из жизни с отцом: большая райцентровская деревня, пыль, он носится по двору с палкой-ружьем в руке, догоняя пацанов, таких же чумазых игроков в «войнушку», а батя машет ему большой рукой, а в другой – портфель, батя идет с работы, из конторы, где он возится с бумажками, потому что сорвал спину и теперь у него «лёгкий труд», так говорит мама, когда забирает у него тяжести в доме, не дает принести воду с колодца или ведро с углём, чтобы протопить печку. А батя, заскучав, находит Панька и говорит: «Панёк, пошли мастерить?», и тот, бросив палку и пацанов, бежит за отцом в сарай, где они выпиливают лобзиком колеса для машины, сколачивают кузов и кабину игрушечного, но как настоящего грузовика, пока мать не начнет кричать в окно, звать на ужин…
2.
Паньком его звали все, кто его знал. И на работе, все, кроме начальства, так называли, а он и не против, Панёк так Панёк. «Павел Николаевич» – даже ему сложно так выговаривать, шипящее «Паша» он терпеть не мог с детства, а отцовское «Панёк» было лёгким и привычным, как разношенные ботинки. Работал он охранником в аптеке, сутки через трое, был безотказным, если надо было что-то погрузить-разгрузить, принести-достать, его любили продавщицы-фармацевты и кассирши, и пользовались его безотказностью, прощая спиртной запашок и задумчивую рассеянность, что с него взять? Панёк же! Ни с одной из них он не закрутил, хотя некоторые и были не против, особенно в ночное дежурство, но он не вёлся, хотя уже лет пятнадцать как был холостой, жил один в отписанной ему матерью двухкомнатной квартире. Когда продавщицы заигрывали и намекали, Панёк делал деревянный вид, улыбался и выходил покурить трубку на крыльцо аптеки, и скучающие фармацевтки, махнув рукой, отступались.
Домой он никого не водил, это была «святая святых», потому что там, кроме кухни, кровати и полок с книгами, была его мастерская. Там он рисовал. Вся вторая комната была завалена эскизами, набросками, деталями, незаконченными картинами. Кажется, у Панька не было ни одной картины, которую бы он завершил. Хоть что-то, хоть мелочь, хоть какая-то деталь да выдавали незавершенность работы. Мать, единственная допущенная к его работам, это не видела, восторгалась, порывалась организовать выставку, а он видел, от материных восторгов отшучивался и сгребал очередные недоделки на тумбочку, на полки, на угол стола, да и просто в угол, уже топорщившийся мятыми листами ватмана, холстами и комочками пыли. Да сейчас-то уже и мать редко добиралась до его берлоги на пятом этаже, он сам забегал к ней, жившей минутах в десяти ходьбы от него, она его кормила, просила принести что-нибудь из нового, показать, а он отмахивался: «Мам, да ничего интересного нет. Как будет, принесу обязательно!», но знал, что не принесет.