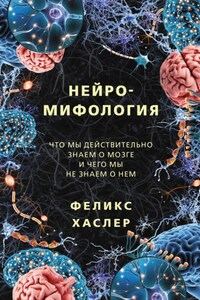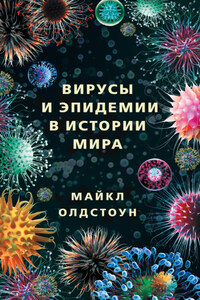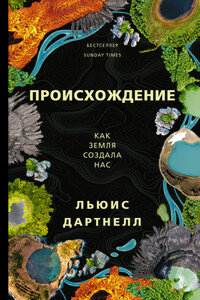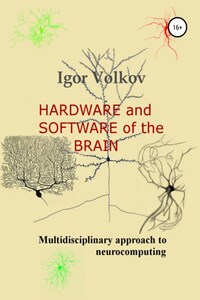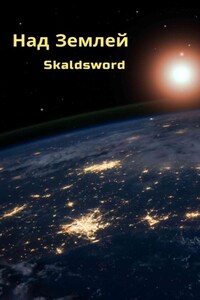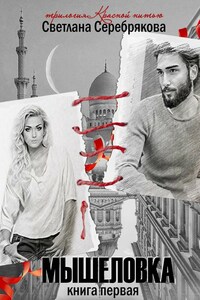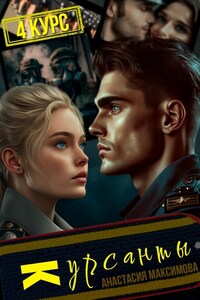Нужна ли эта книга? К сожалению, да. Если ученые не брезгуют пространными объяснениями, выходящими далеко за пределы возможностей познания своего предмета, срочно необходимо подтверждение реальности. Тем более, если объяснения ученых основаны не на достоверных научных фактах, а на недоказанных предположениях, «неоспоримых» догмах и бесконечном повторении невыполнимых обещаний. Цель этой книги – показать почти невероятное несоответствие между современным пониманием мира нейронауками и эмпирическими данными.
Вот к чему мы пришли. Со времени «десятилетия мозга» 1990-х годов «новые науки о мозге» получили беспрецедентное распространение. Их объяснительные модели вышли далеко за пределы естественных наук и проникли на бывшие территории наук гуманитарных и общественных. Доказательства отсутствия свободной воли, открытие биологических маркеров криминального поведения или обнаружение нейромолекулярных причин страха, насилия и депрессии: все это сегодня смело включается в сферу интересов исследователей мозга. Пусть не сегодня, но в обозримом будущем они смогут решить даже такие масштабные проблемы.
Насколько далеко зашла эта «нейрооперация», иллюстрируют слова британского биолога Семира Зеки: «Мой подход определяется истиной, которую я считаю неопровержимой: каждый человеческий поступок управляется работой и законами мозга и поэтому не может быть истинной теории искусства и эстетики, если она не основана на нейробиологии»[1]. Даже искусство, в первую очередь продукт культуры, по-видимому, нуждается в новейших интерпретациях с помощью нейронаучных концепций. В поисках «нейронных коррелятов» всего и вся ученые-социологи и экономисты с удовольствием толкают сегодня своих испытуемых к магнитно-резонансным томографам и внушают следующее: здесь строго научный подход используется для объяснения сущности человека.
В отличие от восторженных «нейроновостей» в средствах массовой информации, реальная повседневная жизнь в институтах исследования мозга гораздо более прозаична. Большинство исследователей мозга прекрасно осознают узкие границы своей науки и совсем не стремятся объяснить интеллект и восприятие, читать мысли или предсказывать будущие поступки. Эти в высшей степени серьезные представители нейрогильдии довольны уже тогда, когда после долгих лет работы узнают чуть больше об обработке визуальных данных в зрительной коре головного мозга или о нейроадаптивных изменениях, вызываемых игрой на фортепиано. Против этого, конечно, никто возражать не будет. Но поскольку такого рода научные выводы редко похожи на сенсацию, они вряд ли появятся в средствах массовой информации. Чего не скажешь о «заявлениях, формирующих мировосприятие»[2], – именно их в последние годы охотно культивируют некоторые корифеи в области исследований мозга, тем самым прославляя преувеличенные возможности нейронаук. Основная критика моей книги адресована этим необоснованным заявлениям, которые особенно часты в областях «социальной, когнитивной и аффективной неврологии».
Нынешняя нейрошумиха не просто действует на нервы, но имеет практическое влияние на жизнь множества людей. В конце концов, формируется в корне неверное впечатление, что исследования мозга дают точную информацию о биологических процессах, лежащих в основе наших переживаний, мышления, действий. Поэтому медицина «на основании эмпирических данных» может целенаправленно вмешиваться в работу мозга, если что-то идет не так. Например, в случае психического расстройства. Классическая «биопсихосоциальная модель психического заболевания» уже давно пережила драматический сдвиг в сторону биологии. Самым заметным признаком этой научно-идеологической переориентации является все менее контролируемая практика (избыточного) назначения психотропных препаратов. Все больше экспертов считают это фатальной тенденцией, имеющей значительные последствия. Обширная глава книги «Нейроредукционизм, нейроманипуляция и торговля болезнями» посвящена развенчанию мифа о том, что биологическая психиатрия – это история успеха научных доводов и спасение для пациентов.
Для реалистичной оценки ситуации полезно поработать в области нейронауки. Я сам в течение десяти лет входил в рабочую группу нейропсихофармакологии и нейровизуализации в Психиатрической клинике Цюрихского университета, известной как Бургхёльцли. Уже с 1990-х годов Франц Фолленвейдер и его коллеги используют там нейронаучные методы для исследования влияния галлюциногенных препаратов на мозг и переживания человека.
Здесь я хочу предостеречь читателя от очевидного предположения: опыт исследовательской работы в этой группе не сделал меня скептиком в отношении нейробизнеса. Хотя исследование галлюциногенов в Бургхёльцли стало детищем «десятилетия мозга», всем в этом учреждении было и остается очевидным, что сознание – это нечто большее, чем просто каскад биохимических мозговых процессов. При рассмотрении состояния стирания границ на фоне псевдомистического галлюциногенного опыта даже самый закоренелый исследователь мозга наконец понимает, что подобное состояние не может быть адекватно описано с помощью нейронаучных методов. Не говоря уже о том, что не может быть оно и объяснено.
Но со мной все было наоборот. Часто я сам становился одним из тех, кто был поглощен слишком простой механистической точкой зрения и принимал на веру доминирующую «нейроидею». Сегодня я благодарен коллегам за периодическую корректировку подобных моих взглядов. Также я должен признать, что не раз поддавался соблазну снискать славу и уважение, разыгрывая нейрокарту. Своими же лекциями я внес вклад в формирование мировоззрения, которое сегодня критикую. Короче говоря, я сам не так давно был «церебральным субъектом»[3], убежденным в том, что нам, чтобы понять самих себя, достаточно лишь изучать мозг. О моем нейроэнтузиазме того времени свидетельствуют несколько научных публикаций и журналистских статей. Многое в них я написал бы сегодня по-другому, а некоторые утверждения хотел бы полностью вычеркнуть.
C другой стороны, период моего непосредственного вовлечения в исследования мозга оказался определяющим для моего нынешнего критического взгляда на науку и, следовательно, для этого книжного проекта. На больших конгрессах нейропсихофармакологии я столкнулся не только с грандиозным академическим высокомерием, но и с агрессивными деловыми уловками фармацевтической промышленности.