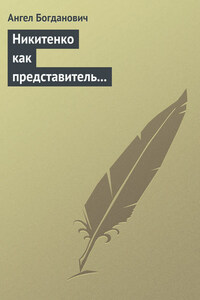Въ августѣ исполнилось двадцать лѣтъ со дня смерти Александра Васильевича Никитенки, имя котораго если и извѣстно современному читателю, то лишь какъ автора единственной въ своемъ родѣ книги – «Дневника», озаглавленнаго авторомъ такъ: «Моя повѣсть о самомъ себѣ и о томъ, чему свидѣтель въ жизни былъ». При жизни, однако, онъ пользовался почтенной и вполнѣ заслуженной извѣстностью, какъ хорошій профессоръ, добросовѣстной критикъ, академикъ и администраторъ. Но всѣ эти, такъ сказать, оффиціальныя стороны его дѣятельности пошли на смарку, натерлись и забылись послѣ появленія въ 80-хъ годахъ [1] его «Дневника», въ которомъ Никитенко выступаетъ въ роли несравненнаго лѣтописца своего времени. Въ немъ изумленному обществу явился новый человѣкъ. Сбросивъ вицъ-мундиръ и отложивъ въ сторону всякое мірское попеченіе, Никитенко перерождается и такъ основательно, какъ только можетъ русскій обыватель, который при исполненіи обязанностей – одно, а затѣмъ, «вымывъ руки», становится прямою противоположностью именно этимъ обязанностямъ.
Разсматриваемый и оцѣниваемый съ этой точки зрѣнія, Никитенко представляетъ характернѣйшій образецъ обывательской приспособляемости. Бюрократъ до мозга костей, цензоръ, выслужившій въ цензурѣ полный пенсіонъ, и консерваторъ чистой крови, онъ въ тиши кабинета написалъ удивительную книгу, ужаснѣйшій доносъ потомству на бюрократію, цензуру и консерватизмъ. Родился онъ въ царствованіе Александра I, пережилъ всю николаевскую эпоху, шестидесятые годы и умеръ въ концѣ 70-хъ. Кажется, довольно смѣнъ и направленій, и настроеній. Кажется, могъ человѣкъ хоть разъ высказаться, открыто стать «ошуйю» или «одесную», могъ, что называется, прорваться. Съ нимъ этого не случилось, онъ ко всему примѣнялся легко и свободно, съ поразительной гибкостью и даже не безъ своеобразнаго изящества. По крайней мѣрѣ, читая его «Дневникъ», эту глубокомысленную и остроумную характеристику его времени и современниковъ – и какихъ современниковъ! – читатель ни разу не испытываетъ чувства жгучей боли или стыда за автора, скорѣе, напротивъ – восхищается неуловимой дипломатіей и ловкостью, съ которою Никитенко, проскользнувъ между Сциллой и Харибдой, достигаетъ чина тайнаго совѣтника, званія академика и многихъ другихъ благъ и успокаивается на лаврахъ, правда дешевыхъ, но все же лаврахъ. «Я не принадлежу никакой партіи», замѣчаетъ Никитенко по поводу академическихъ раздоровъ, гдѣ боролись «нѣмцы» и «русскіе». «Я прежде всего принадлежу моему убѣжденію, и только», гордо заявляетъ онъ въ другомъ мѣстѣ. И всѣ партіи ухаживали за нимъ и считали его въ своихъ рядахъ. Быть внѣ партій значитъ служить самому себѣ – и только, и въ этомъ искусствѣ Никитенко не знаетъ соперниковъ.
Удивительна выдержка, съ которою онъ ведетъ свою лѣтопись, систематически, ежедневно, съ глазу на глазъ съ самимъ собой изливая накопившіяся въ немъ горечь и желчь неудовольствія и раздраженія противъ тѣхъ, предъ кѣмъ приходилось ему сгибаться, кому служить, чьи молча выносить обиды, глупости и капризы. Его «Дневникъ», это – кладезь приспособляемости и мудрой житейской опытности. Онъ въ равной мѣрѣ ладитъ съ Клейнмихелемъ, Уваровымъ и Ростовцевымъ, и отъ каждаго пріемлетъ малую толику. Онъ не скрываетъ, что это ему доставалось не дешево. Онъ вѣчно заваленъ кучею дѣлъ, служить въ десяти разныхъ учрежденіяхъ, пишетъ десятки докладныхъ записокъ, сознавая ясно все ничтожество этихъ занятій, все ихъ безплодіе и ненужность. Эта работа уподобляетъ его «каторжнику», какъ онъ съ горечью жалуется неоднократно. Въ то же время его влечетъ совсѣмъ въ иную сторону. «У всякаго общественнаго дѣятеля, – пишетъ онъ, – свои элементы силы, посредствомъ которыхъ онъ достигаетъ желаемыхъ результатовъ. Элементами моей силы я считаю: мысль и слово, а не эрудицію. Мое естественное влеченіе обратить каѳедру въ трибуну» (Т. I, 418). А между тѣмъ, этотъ «трибунъ» – цензоръ. Трудно придумать болѣе роковое «стеченіе обстоятельствъ».
Его выручаетъ дневникъ, на страницахъ котораго его огорченная душа ищетъ утѣшенія и примиренія съ идеалами. Ибо и послѣдніе ему далеко не чужды. Онъ никогда не забываетъ ихъ, они неустанно грызутъ его сердце и волнуютъ его умъ. Только ихъ онъ держитъ про себя, не давая имъ проявиться въ дѣйствіи. Какъ русскій обыватель, онъ вѣчно пребываетъ въ надеждѣ славы и добра, что и способствуетъ ему выносить всяческія казни безтрепетно и безропотно. Никитенко вовсе не лицемѣръ, не Тартюфъ или іезуитъ. Въ немъ много благожелательности, природнаго добродушія и тонкаго юмора, позволяющаго человѣку и въ самомъ ужасѣ подмѣчать смѣшное и тѣмъ смягчающаго его. Съ первой и до послѣдней страницы его «Дневникъ» ни разу не вызываетъ негодованія, брезгливости или отвращенія, хотя авторъ никогда не рисуется и ничего, повидимому, не скрываетъ. Предъ вами все время благодушный россіянинъ, милый человѣкъ и не безъ достоинствъ. Въ немъ есть и благородство, и прямая честь. Вы ни разу не заподозрите его во взяточничествѣ, напр., хотя его окружали взяточники, взятка носилась въ воздухѣ, а въ «Дневникѣ» то и дѣло попадаются записи: «слышно, такой то (имярекъ) своровалъ столько-то».
Рѣзкіе, сильные типы, въ ту или иную сторону, требуютъ особой культуры, которая вырабатывается борьбой. Гдѣ тишь да гладь, тамъ не выживаютъ яркіе характеры, требующіе простора для проявленія своей энергіи. Гдѣ личность связана и вся дѣятельность сведена, какъ у Никитенки, къ «Дневнику», тамъ и характеры получаютъ особую закругленность, какъ рѣчные голыши, постоянно омываемые водой, которая исподволь, но неудержимо шлифуетъ всѣ ихъ неровности, сглаживаетъ шероховатости и полируетъ всѣхъ подъ одно.
То же случилось и съ Никитенко, который въ самомъ началѣ выступаетъ предъ нами, какъ личность очень оригинальная, незаурядная, безспорно выдающаяся, хотя и безъ яркой окраски. Сынъ крѣпостного, безъ всякой поддержки и внѣшняго руководства онъ выбивается изъ низинъ тогдашняго общества къ свѣту, поступаетъ въ университетъ и сразу попадаетъ въ кругъ лучшихъ людей своего времени. Что онъ – бывшій крѣпостной, не препятствуетъ ему въ этомъ кругу, даже придаетъ ему извѣстный ореолъ въ глазахъ общества, которое служило тогда центромъ прогрессивнаго движенія. Это было наканунѣ роковыхъ декабрьскихъ дней, во время которыхъ Никитенко уцѣлѣлъ «какимъ-то чудомъ», какъ говоритъ одинъ изъ его оффиціальныхъ біографовъ. Но его спасло знакомство съ Я.И. Ростовцевымъ, которому пришлось сыграть довольно опредѣленную роль въ этомъ дѣлѣ, за что онъ и былъ награжденъ флигель-адъютантствомъ и быстро пошелъ вверхъ по лѣстницѣ наградъ и отличій. Повидимому, тяжелыя событія этого времени произвели сильное, подавляющее впечатлѣніе на молодого Никитенко. Въ «Дневникѣ» 26 г. есть уже намеки на будущаго благополучнаго россіянина. Никитенко еще растерянъ, не знаетъ, какъ быть и какъ держаться. Осторожно, но цѣпко хватается онъ за разныя благопріятныя обстоятельства и полегоньку, потихоньку, но увѣренной поступью идетъ къ благополучному устроенію своихъ дѣлишекъ. Любопытно и назидательно видѣть, какъ уже въ студентѣ развивается его будущая способность сходиться со всякими людьми и изъ каждаго извлекать посильную пользу. Въ «Дневникѣ» этого періода нѣтъ, конечно, ничего, что слишкомъ строгій моралистъ поставилъ бы на счетъ Никитенки въ дурную сторону. Какъ до конца, такъ и въ началѣ предъ нами умный, тонко понимающій человѣкъ, кующій свою судьбу, не брезгая никакимъ матеріаломъ, но слишкомъ умный, чтобы подмѣшивать сюда завѣдомую гадость ради минутныхъ выгодъ. Вотъ, напр., какъ онъ объясняетъ мотивы дѣйствій Ростовцева, котораго онъ не въ силахъ ни осудить, ни оправдать. Надо помнить, что это пишется въ глубочайшей тайнѣ, наединѣ съ самимъ собой, слѣдовательно, ни хитрить, ни умалчивать нѣтъ нужды. «Поступокъ Ростовцева, во всякомъ случаѣ, заключаетъ въ себѣ много твердой воли и присутствія духа, чему я самъ былъ свидѣтелемъ, но онъ, мнѣ кажется, слишкомъ хотѣлъ показаться благороднымъ, а это въ соединеніи съ тѣмъ сомнительнымъ положеніемъ, въ коемъ онъ находился, можетъ показаться многимъ только хитрой стратегемой, посредствомъ которой онъ хотѣлъ въ одно время и выпутаться изъ бѣды, и явиться человѣкомъ доблестнымъ. Весьма естественно, что и государь такъ думаетъ. Это мнѣніе могло быть сильно подкрѣплено еще тѣмъ, что Ростовцевъ объявилъ заговорщикамъ о разговорѣ своемъ съ государемъ наканунѣ бунта и даже далъ имъ копію съ письма своего къ нему, что объявили сами заговорщики при допросахъ. Сей поступокъ могъ быть сдѣланъ и съ хорошимъ намѣреніемъ, то-есть, чтобы остановить заговорщиковъ, показавъ имъ, что правительству уже извѣстны ихъ замыслы, и оно, слѣдовательно, готово принять мѣры. Но, съ другой стороны, это могло быть и простои несостоятельностью, которая являлась какъ бы неизбѣжнымъ послѣдствіемъ первыхъ его связей съ княземъ Оболенскимъ и Рылѣевымъ, то-есть, онъ хотѣлъ показать, что онъ дѣйствуетъ не какъ предатель. Но для сего уже было достаточно того, что онъ не назвалъ заговорщиковъ предъ государемъ, а предоставилъ имъ самимъ объявиться или скрыться. Но въ такихъ обстоятельствахъ, въ какихъ находился Ростовцевъ, трудно не сдѣлать ошибки» (т. I, стр. 207–208).