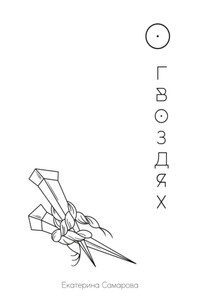Некто etc.
Некто, умерев в очередной раз, поочередно встал на обе ноги, зевнул, хрустнув челюстью, и закурил, не боясь штрафов за общественные места. Потому что теперь все считается общественным подобно отхожему. Революционер вышел на балкон, плюнул в небо, сбив самолет, и подмигнул осеннему солнцу. Палит как в июле. Гори оно все огнем. Одевшись в приличное панельным домам, явился на улицу как таковой в самую гущу то ли митинга, то ли похорон. Представляя, как его представляют другие, лапая со всех сторон липкими взглядами, Некто идет вольным шагом до чего бы там ни было – не все ли равно, когда человек только что был мертв и вот уже попыхивает сигареткой? Белокурые мальчики осаждают фонарные столбы, машут их верные соратницы ажурным исподним, день-то какой! почти первомай! Где-то за городом и впрямь полыхают мировые пожары и пахнет жареным. А этот, неприлично даже выразиться, идет себе в булочную весь в подозрительных целях, будто вопросы общественные его не касаются.
Не касаются. Вообще плевать хотел. Что влево, что вправо. Только вперед неудобно, можно и в ботинок попасть. Да и кто ж себе под ноги плюет? Некто, в общем-то, был толковым малым, только бессмысленным. То есть форменным образом каждый на его хаотичном пути, то есть ни тебе разметки, ни отбойников, ни даже хоть какого-нибудь завалящего дэпээсника в кустах, – всё дела сердечные, воспалительные, громокипящие, – каждый задавался вопросом: зачем? И уходил, обидевшись, без ответа. Потому что ответа всегда надо было еще дотерпеться. Разобьешься ты, хаотичный, рано или поздно вдребезги и разлетишься по серому небу пророчащими воронами. Сто лет как с хвоста.
В универмаге отстоявший очередь диссит юную продавщицу за пакеты и дисконтную карту, жует матерное, соблюдая цензуру, качает торсом, дескать на пальцах, всё как есть. Продавщица вытягивает длинный чек с фиолетовой благодарностью за покупку, приходи еще, милый, устроим настоящую бойню, отделаем друг друга в фарш по сто двадцать рублей за килограмм по скидке, потроха по полу, кетчуп по стенам, всё такое. А потом ты возьмешь меня на прилавке, пробьешь как следует на кассе, но на карте будет недостаточно средств, и весь красный от стыда, ты выдавишь извините и пойдешь в свою панельку, не поднимая головы. А я догоню тебя и угощу яблоком. Впрочем, мне вообще фиолетово.
Девушка, девушка, лучше выдайте мне вина и хлеба. Дайте мне крови напиться, дайте мне вашего тела. Некто смотрит на вас, не оставляя надежды, нецелованный, кусает губы, расцарапывает грудь. Так-то так-то, молодой человек, – говорит девушка. Спасибо, до свиданья, – говорит Некто и утирает окровавленное. Вернуться ли в свою келью с потолком белым, как саван, или дойти пёхом до самого моря Байкала, холодного и кристального, что душа твоя, все как есть рассказать, запивая слезы водкой, – не отличить, как ни старайся – и то, и то – обжигает. А по утру встать от стыда взъерошенным, промерзшим на обточенных камнях, вздохнуть и повернуть обратно, в тьму-таракань, в тридевятое царство, затерянное где-то в поволжском междуречье, между крестами и полумесяцами, между пчелиными ульями и кабаньими тропами, плачут березы, медведи лакомятся ежевикой, а Некто все идет и идет, поет себе про Катюшу, жмурится от табачного дыма. Вправду ли слово сказывается или так ради трёпа ляпнуто? Наговорено с три короба, а сделано – в наперстке потеряешь. Потому и тянется Некто к большой воде, подобно первым стоит, засучив штанины, но рыбы не ловит. И чужие грехи простив, свои не забыл. Касательно же свиданий – ровно в десять по мск, как Ромео и Джульета, – убьемся на балкончике чем-нибудь и будем вылизывать раны.
А пока тропа за тропой, стёжка за стёжкой, пылится земля под ногами, стучит Некто каблуками по железным мостикам через ручьи, – цыкнет своему отражению и пойдет дальше. Сам себя спрашивает: а что, например, ты можешь сказать про этот мост или, скажем, ручей? А то и скажу, – бурчит под нос Некто, – что где-то здесь неподалеку, а может и совсем в других местах, был завод, и делали там какие-нибудь полезные вещи, а может и совсем бесполезные, одним словом, люди работали с утра и до самого вечера, и были на том заводе большие двух- а то и трехэтажные станки или другие какие машины, и людям надобно было до каждого механизма добраться. А причем же здесь мост? А при том, что такие железные пролеты как раз и ставят на заводах. Разорился, видать, завод, и пошел на лом. А люди пошли по домам. Вот кто-то и смекнул: почему бы пролету не стать мостом? И стало как есть. А ручей? А ручей он и есть ручей. Не приставай ко мне со своими глупостями.
Добредает Некто до деревни и в первую же избу стучится: пусти, апа, переночевать, хоть и солнце еще из окна в окно прыгает, а я тебе дров наколю и поленницу сложу по всем правилам. Топор у апы ладный, да мужских рук давно не видавший. Берет Некто камень, точит, поплевывая, наказ топору дает: так, мол, и так, товарищ, нам ржаветь еще рано. Охренел, что ли.
Кто это у тебя, апа, топором машет? Кто это цыкает и ухает? Никто, кызым, добрый человек, стало быть. Скрипят половицы в избе, пирогами пахнет. Некто чинит ходики, кот ничейный лапами пробует гирьки, хитро щурится. Не этот ли бармалей кукушку сохотничал? Он, подлец, – говорит апа и дует на чай, – он. Мурлыка вьется у ног, как заведенный и требует угощений. Смотрит апа в окно, в самую темень, дышит полной грудью, часы со знанием дела тикают, да только в обратную сторону. Молодеет сердце у апы и лицо – что утро росой – слезами омывается: были годы каменные, высохшие, знай себе жизнь доковыливай, о чем – не спрашивай, и случись же – снова ожить, люблю тебя, дуралей, всех люблю, каждый миг. Некто идет вольным шагом, балагурит с пролетающими над головой спутниками, материт выбоины, пыхтит сигаретой, раскрасневшимся угольком помечая себя на звездной карте. Эдак от какого камня куда ни поверни, а земля все равно круглая. А еще говорят: куда не иди, а к своему камню придешь.
И шел Некто, обгоняя свои никудали, путая быль и небыль. Медотекущие героини его сновидений, обернувшиеся кошмарами, доносились до среднего уха свистящими окриками, так что и не разобрать: ветер ли это с подмосковных дач или очередное предательство. Так и быть. Остановимся на том, что взбредет. Вертит головой Некто по сторонам, будто в детстве не учен, и все вокруг пляшет – праздник нынче, не иначе. Подобно телу его многосуставному, многосоставные речи его оказались танцующими, хоть и вышло сольно, не учитывая равнодушных звезд, коих Некто имел наглость уподобить зрителям. Танцуя вольно по лесным опушкам, тихим заводям, полным дремлющих щук и омуля, многоцветным полям и глубоким оврагам, ни за что не сдаваясь, Некто выкидывал коленца, делал гоп через собственную голову, утверждая себя как невозможное ни на этом свете, ни в той темноте. Дым же от его противоречивых привычек плыл по окрестным деревням, который местные жители не преминули обозвать туманом, плюнуть в него и обматерить. Дыма же без огня не бывает, дело известное, потому Некто чувствовал собственную полезность: гражданин не гражданин, а товарищ Прометей, свет и тепло дарующий, хоть и покусанный правдой. Собаки же, цепями обмотанные, лаяли о другом: всё о ветре, – как бы пожара не вышло. И вышло, как стало: зарделся Некто от стыда и вспыхнул, что щепка березовая, потянулся долгой зимней песней, будто девица у окна снегом занесенного тоскует о потерянном суженом, невиданном и нецелованном, встанет солнце, верит она, тогда и будет. Некто же, в очередной раз умерев, встает поочередно на обе ноги, зевает, хрустя челюстью, и выходит на балкон. Солнца-то, солнца сколько. Плюет Некто вниз на белокурых мальчиков, одевается по случаю и выходит до булочной, попыхивая сигаретой. Стеклянные двери расшаркиваются, приглашая в очередь.