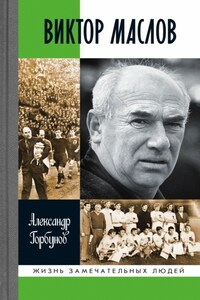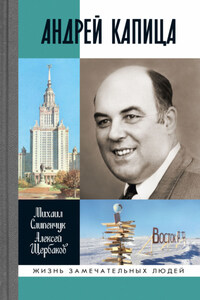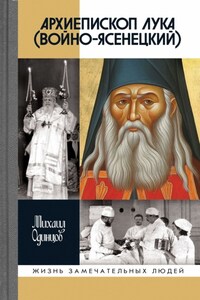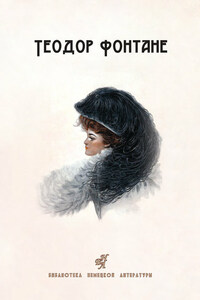Спаяны свежо и тесно
Жизни выжитой слои:
Как прелестно, как прелестно
Жить. На свете. В дни свои.
Георгий Оболдуев
Самый первый “дневник”, в самодельной тетради с твердой зеленой обложкой, завел лет в четырнадцать. Тот, пропавший, где я якобы написал на первой странице: “Не перестаю удивляться гению Толстого”.
На самом деле я это придумал гораздо позже, уже во ВГИКе, – для смеха.
То, что я писал уже много лет, сначала в тетрадях и записных книжках – рукой, потом на машинке, потом на компьютере, – это никак не дневник, скорее – книга отзывов на всё-про-всё, в некотором смысле даже книга жалоб и предложений.
Как только есть возможность – сбегаю, эмигрирую. Туда. И мои записи за все годы – по сути, свидетельство о втором и предпочтительном гражданстве, тайно самим себе выданном и заверенном временем.
Но так и не успел ни с кем ни объясниться, ни себя объяснить – даже с самим собой, даже самому себе. И вдруг подумал! А ведь никто меня не знает по-настоящему. Хорошо это или плохо?
Ни по делам моим, ни по словам
не следует судить, каков я был.
Как часто обстоятельства мешали
по-своему и поступать, и жить.
Как часто обстоятельства велели
молчать, когда хотелось говорить.
И лишь в поступках самых незаметных,
в писаньях самых тайных, сокровенных
найти возможно ключ к душе моей.
Но, может быть, усилий и труда
Такая цель ничтожная не стоит…
Константинос Кавафис
Когда-то в детстве по ночам я придумывал себе восхитительную судьбу.
Я радовался под одеялом своим изобретениям собственной будущей – и при этом как бы настоящей – жизни, ставившим меня в такое восхитительное – высшее, блистающее, вызывающее мой собственный восторг – положение. Я дрожал от счастья, смеялся и захлебывался. И верил! И много лет я так играл в себя – другого. Только менялась – на порядки – степень наивности и изобретательности. Жизнь вокруг менялась с возрастом, а игра оставалась. Кем я только не перебывал за это время: и великим актером, и великим летчиком, и великим философом, и, наверное уж, великим писателем…
Как и многие, я всегда подозревал, что я это не я. Но в каждом возрасте по-разному. В детстве я очень хотел быть не я, хотел быть не собой, а кем-то великим. В юности меня стал занимать вопрос: почему я это я? И в то же время упорно старался доказать всем и себе, что я это я. А когда я становился старше и грешил, то после каждого греха подозрения, что я это не я, всё усиливались и усиливались. Но все равно я возвращался к себе. Ну вот, а теперь остается только притвориться не собой, чтобы смерть не узнала и прошла мимо.
“Сюжет – это использование всего знания о предмете”.
Виктор Шкловский
Я однажды подавал шубу кумиру моих юных лет Шкловскому. Это было, когда умерла Нина Яковлевна Габрилович, Зиночка из нашего с Авербахом фильма “Объяснение в любви”. И он в похоронный день пришел к Старику, он же Филиппок. И я принес ему шубу из прихожей в кабинет, где они стояли с Габриловичем. Шкловский никак не мог попасть в рукава, потому что одновременно продолжал выражать соболезнование, и тайно злился на то невидимое за спиной, что так неловко сзади напяливало на него шубу. А это был я, и я волновался. И враждебную эту жесткую и тяжелую шубу я запомнил больше, чем Шкловского.
Я и Олешу видел не один раз.
Узнавая в изданной в 2006-м “Книге прощания” растворенные там “Ни дня без строчки”, вспоминаю, как я ему обязан. Может быть, идея этих моих записей – от него?
“Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная”.
Александр Пушкин
“Ни дня без строчки”? Даже если эта строчка – не твоя?
Насколько все-таки я завишу от чужих умов, мои догадки – от их открытий?
Я люблю чужую мысль, я завидую ей.
Часто я использую ее как насильник. Каждая цитата здесь не только часть моего “интеллектуального или духовного опыта”, она еще и – в некотором смысле – мое собственное высказывание, мое признание, моя откровенность.
Иногда наступает такая степень близости между мной и источником, когда мне кажется, что его мысли – мои мысли, и я не испытываю никакой неловкости, пользуясь ими, как своими.
“Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает”.
Осип Мандельштам
Известно, что жизнь и судьба человеческая решаются в споре между Богом и сатаной. (Иов). И в этом споре Бог вовсе не так активен, как дьявол, он больше доверяет человеку, он не кукловод. Может показаться, что Бог наивнее, а дьявол – больший психолог? Но это заблуждение.
Что же зависит от человека? Собственно, это и есть главный вопрос и философии, и искусства.
Я всегда думаю, почему я такой счастливый человек. Я ведь мог не родиться. Но они встретились, эти двое – с помощью третьего, моего дяди, писателя Виктора Дмитриева, которого я никогда не видел и который мог застрелиться до того, как их познакомил. Я мог погибнуть в войну. Ведь немецкая бомба, попавшая в наш балкон, могла разорваться, а не зарыться в землю. И я мог в тот момент быть не в эвакуации, а дома, на Фурманова. Разве это не счастье? И в эвакуации я мог умереть от диспепсии, если бы не было нужного лекарства взамен того, что вдруг сдуло с подоконника ташкентским ветерком. Но я не умер. Разве это не счастье? Впоследствии я мог стать негодяем, вором, стукачом. А почему нет? Но ведь не стал. Разве же это не счастье? Я мог не прочитать то, что я прочитал, не увидеть то, что увидел, не побывать там, где я побывал. Но прочитал, увидел, побывал. Могло не быть сына. Я мог не встретить мою жену Иру и нашу дочку Катю. Я мог не встретить тех, кого встречал и с кем дружил. Но я их встретил. Разве это не счастье?
Я насильно вырвал свою жизнь из какой-то иной, возможно предназначенной мне, судьбы. Может, это была ошибка?
Но я всегда радуюсь, что живу, и всегда мне по этому поводу как-то неловко.
Друг моей молодости, очень тогда близкий, Валя Тур смешно говорил про меня, что я знаю всё – и всё неточно. И был недалек от истины.
По частям – мне кажется – я могу понять всю свою жизнь, но в целом она мне никак не дается.
Видимо, я все-таки действительно что-то о себе не знаю.
“Невозможно же жить и работать с неутоленным желанием иметь ангельски чистую совесть”.
Федерико Феллини
А почему, собственно, я не должен гордиться собой? Кто мне это внушил? Кто заразил мою душу постоянной болью самоуничижения и неуверенности? Кто? Я сам. Слишком много гордыни, слишком много грехов, твержу я себе постоянно и тоскливо – и этим только умножаю их.
Образ моей жизни, моей судьбы, моей слабости и силы. Мальчик по имени Сашка – придуманный мной – мой вечный герой. В разных ипостасях. И в разных сочинениях. И разных возрастах.