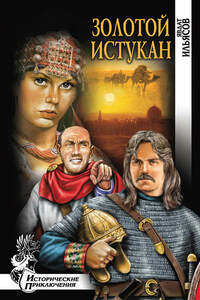Фиме казалось, что умереть просто. Ведь смерть – неотвратимая часть жизни.
Свою смерть она назначила на ночь с субботы на воскресенье – с утра не нужно было на работу. Стоял бесснежный, беспросветно унылый конец ноября. Причин для жизни и раньше было немного, а сейчас они одна за другой утонули в ледяной промозглой тьме конца осени. Фиме почему-то казалось, что смерть может быть красивой: она купила красное платье, о котором долго мечтала, но жалела на него денег и отчетливо понимала, что надеть его ей все равно будет некуда. Поскольку никаких расходов после смерти не предвиделось, Фима решила, что она может себе позволить это красное платье. К тому же она здраво рассудила, что отход в мир иной вполне достойный повод, чтобы надеть это прекрасное торжественное платье. Она вертелась в нем перед большим зеркалом в прихожей и любовалась собой. Она представляла себя на балу, танцующей вальс с элегантным господином в черном фраке. Она представляла, как он шепчет ей на ушко, мерцающее призрачной искоркой бриллианта, какой-то обольстительный вздор, а она, Фима, заливисто смеется. Она была вызывающе красива в этом роскошном платье, и без него тоже, и в скромном сереньком свитерке и потертых джинсиках, которые обычно носила. Фима была вызывающе красива и столь же вызывающе несчастна в своем оглушительно нелепом одиночестве. Ничего глупее этого одиночества просто быть не могло. Фима была умна, добра, забавна, интересна, работоспособна. У нее был отменный вкус и обостренное чувство прекрасного. Она была так щедро одарена природой, она была столь хороша, что люди пугались этого совершенства. Она была зеркалом, отражающим их недостатки. Некрасивые видели в ней свое убожество, интриганы – свою бессмысленную возню, сплетники – свою зависть, обычные – свою заурядность. Все рядом с ней казалось мелким и незначительным. Начальники неохотно брали ее на работу, справедливо беспокоясь, что появление такого чуда внесет смуту в относительно ровный коллектив. Коллеги отчаянно завидовали и ее красоте, и ее способностям, их раздражала ее кротость и покладистость, на время они забывали распри и междуусобицы и объединялись в своем желании избавиться от добродушной красавицы, которая ничего плохого им не сделала, но являла собой свидетельство их несовершенства. К двадцати семи годам Фима не сделала заметной карьеры – она постоянно кочевала с места на место, нигде надолго не задерживаясь. Не обрела друзей – никто не мог вынести ее безупречности. Никого не любила, и никто не любил ее. Ни один мужчина так и не решился взвалить на себя груз ответственности за это неземное создание. При первом же взгляде на Фиму становилось ясно, что она не годится ни для легкого флирта, ни для необременительных, ничего не значащих отношений. Сразу было понятно, что эту девушку можно только полюбить. Безвозвратно. Раз и навсегда. Смельчаков не нашлось. Фима была оглушительно одинока. На исходе ноября своего двадцать седьмого года жизни она решила умереть. Перед смертью Фима решила исполнить одну свою потаенную мечту – напиться коньяку. Напиться в хлам, до поросячьего визга, до беспамятства, до непотребства. Так, чтобы потом было невыносимо стыдно. Хотя, никому не известно, испытывают ли чувство стыда мертвецы: сразу после коньяку Фима намеревалась выпить пригоршню таблеток снотворного. Фима была девушкой крайне несовременной, алкогольные напитки употребляла редко и в крайне несерьезных количествах: только по очень большим праздникам, со своими родителями, когда удавалось к ним выбраться, или они навещали ее, она выпивала по бокалу сухого красного вина или шампанского. Самого лучшего. Отец часто говаривал, что нет ничего страшнее пьяной женщины, смотрел в Фимины огромные чистые зеленые глаза своими мудрыми опытными зелеными глазами и наставлял: «Дочка, не смей пить, не огорчай меня». И этот родительский запрет почему-то был сильнее соблазнов. Когда в магазине ей хотелось купить бутылку вина, она представляла осуждающий и разочарованный взгляд отца и проходила мимо прилавков с алкоголем. А перед смертью решила напиться. Вся ее жизнь складывалась из родительских запретов и правил, которые она не осмеливалась нарушать: не клади локти на стол, мой руки перед едой, не гуляй допоздна, питайся правильно, не кури, не целуйся без любви, не спи с мужчинами до замужества, выбирай мужа раз и навсегда, не лги без необходимости, будь порядочной… Родители жили далеко. За горами, за долами. В большом сибирском городе. И были они состоятельными людьми и в стародавние времена, и в новейшие. А в новейшие-то, пожалуй, и еще больше разбогатели. И еще в детстве Фима была изгоем: не любили ее за красоту, доброту и деньги родителей. Фима уехала из родного дома, из родного города, в надежде, что там за горами, за долами, в чужом краю, в европейской части России, сможет она начать новую жизнь, и новым людям сможет она понравиться, и сможет она стать самостоятельной и сама чего-то достичь. Ничего не вышло. Так и осталась она изгоем. И просторную квартиру купили ей родители. И машину. И деньги на билеты до исторической родины давали ей они, и заваливали подарками, и отправляли на курорты, чтобы смогла она оправиться от очередной карьерной неудачи, и звали ее вернуться, и предлагали работу в своей процветающей фирме. А Фима все упрямилась, все артачилась, все говорила: «Я сама, я сама». Сама зарабатывала только на очень скромную жизнь. И платье, которое безумно нравилось, смогла позволить себе только перед смертью.
Выбор города, куда Фима сбежала от родителей и от судьбы, был странен и был закономерен. В этом небольшом городе на Волге когда-то давно, почти еще ребенком, обитала бабушка Фимы. Недолго. Во время войны. В эвакуации. От бабушки внучке досталось имя Серафима, что значит огненная, пламенная. Шестикрылая Серафима. Забавно. Попробуйте пожить с таким именем в XXI веке. Фима знала, что была такая святая – дева Серафима, монахиня. Прославилась она исключительной набожностью и праведностью. Бабушка Фимы особой набожностью не отличалась, а вот праведность ее была достойна легенд. Жаль только, что некому было их сложить. Если бы Фима не была уверена, что непорочное зачатие невозможно, или возможно только в исключительных, божественных случаях, она бы думала, что отец ее появился на свет именно таким, нетривиальным способом. Дедушку своего Фима не знала, как не знал его и ее отец. Иногда Фиме казалось, что его никогда и не было. Бабушка говорила, что дедушка умер молодым от какой-то неизлечимой болезни, когда ее сын был совсем маленьким. С тех пор она была одна. Она больше не выходила замуж. Не была замечена в каких бы то ни было отношениях с мужчинами, кроме дружеских и деловых. Бабушка Серафима была врачом-педиатром. Где бы она ни жила, ее квартира неизменно осаждалась соседками, которые просили посмотреть их детишек. Она делала уколы, советовала лекарства и просто утешала. Ссужала друзьям последние деньги в долг, зная наверняка, что их никогда не вернут. Она всегда умела сказать нужное слово или промолчать вовремя. Ее считали ангелом. Ее любили. Она и была ангелом, шестирукой Серафимой, которая успевала помочь всем, кроме себя. Отец иногда говорил Фиме про бабушку: «Вот пример достойной жизни, вот пример для подражания, учись, Фима!». Умерла она достаточно рано, когда было ей немного за шестьдесят, а Фима была еще подростком. Могла бы еще жить да жить. Умерла от неизлечимой болезни, как и дедушка. Врачи потом сказали, что ее можно было бы спасти, если бы вовремя обратилась. Она, наверняка, и сама все знала, да не захотела спасаться. Иногда она говорила, что очень устала. Спешила она на небеса к своим шестикрылым собратьям. После похорон отец задумчиво и обреченно посмотрел на Фиму и тихо сказал: «Зря я назвал тебя ее именем. Непростое это имя. Не досталась бы тебе ее судьба». Фима ничего не поняла, сердечко кольнуло смутной тревогой. Она долго не могла смириться со смертью бабушки. Это была первая смерть в ее жизни. И долго Фиме еще казалось, что придет она из школы, и квартира встретит ее запахом борща и домашних печений, что из кухни выйдет бабушка в переднике, вытирая руки полотенцем, и скажет строго: «Переодевайся, мой руки и марш обедать». Но теперь Фима приходила в пустую квартиру, отпирала дверь своим ключом. Здесь витали разные запахи: и маминых духов, и отцовского одеколона, и подвявших роз, и пыли, и книг, да мало ли чего еще, только не было больше запахов борщей и домашних печений и не было тихого, уютного запаха бабушки. Он жил только в старом бабушкином платке и халате, которые родители не стали выбрасывать – на память. Фиме казалось странным, что человек давно истлел в земле, а вещи покойника все еще хранят его запах. Ей казалось несправедливым, что вещи живут дольше людей. Она мечтала изобрести эликсир вечной жизни. Не изобрела. А теперь вот хотела умереть раньше положенного ей срока. Добровольно. Скорее самовольно. Этот бунт должен был стать первым серьезным бунтом в ее жизни. И последним.