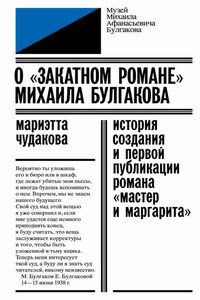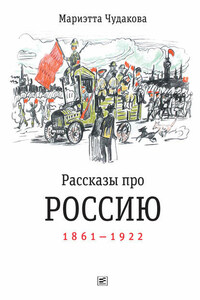«…Первым слушателем “Жди меня” был <…> Кассиль. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание»[1].
История писания и печатания такова.
27 июля 1941 года Симонов вернулся в Москву, пробыв не менее недели на Западном фронте – в Вязьме, под Ельней, близ горящего Дорогобужа. Он готовился к новой поездке на фронт от редакции «Красной звезды»; на подготовку машины для этой поездки нужна была неделя. «За эти семь дней, – вспоминал он, – кроме фронтовых баллад для газеты, я вдруг за один присест написал “Жди меня”, “Майор привез мальчишку на лафете” и “Не сердитесь – к лучшему…”. Я ночевал на даче у Льва Кассиля в Переделкине и утром остался там, никуда не поехал. Сидел на даче один и писал стихи. Кругом были высокие сосны, много земляники, зеленая трава. Был жаркий летний день. И тишина. <…> На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете есть война…»
«Так сказано в дневнике, – поясняет автор далее, добавляя: – наверно, в тот день больше, чем в другие, я думал не столько о войне, сколько о своей собственной судьбе на ней. <…> И вообще война, когда писались эти стихи, уже предчувствовалась долгой. “…Жди, когда снега метут…” в тот жаркий июльский день было написано не для рифмы. Рифма, наверно, нашлась бы и другая…»[2] Далее – о первом слушателе Кассиле и его реакции.
Поздней осенью, уже в Северной армии, Симонов, «пожалуй, впервые», как он вспоминал, «читал еще не напечатанное “Жди меня” целому десятку людей сразу. Гриша Зельма, подбивший меня там прочесть эти стихи, потом, во время нашей поездки, где бы мы ни были, снова и снова заставлял меня читать их то одним, то другим людям, потому что, по его словам, стихи эти для него самого были как лекарство от тоски (курсив наш. – М. Ч.) по уехавшей в эвакуацию жене»[3].
«Я считал, что эти стихи – мое личное дело…[4] Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком севере и когда метели и непогода иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке или в занесенном снегом бревенчатом домике, в эти часы, чтобы скоротать время, мне пришлось самым разным людям читать стихи[5]. И самые разные люди десятки раз при свете коптилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение “Жди меня”, которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека. Именно этот факт, что люди переписывали это стихотворение, что оно доходило до их сердца, – и заставил меня через полгода напечатать его в газете»[6].
Осенью 1941 года Симонов, таким образом, и не думает о напечатании «Жди меня» – он остро, острее многих, чувствует регламент и даже внутренне не спорит с ним: граница между «для себя» и «для печати» у него незыблема.
Но в силу сугубо личных обстоятельств он пишет в тот год – независимо от войны! (в этом симптоматика кризиса первого цикла и назревания чего-то нового[7]) – множество стихов «для себя», точнее – для своего единственного адресата[8].
Совсем иначе это у Пастернака, остро чувствующего кризис прежнего положения (по нашей историко-литературной схеме – первого цикла). Осенью 1941 года у наиболее проницательных современников обострилось ощущение несвободы, у литераторов – отвращение к привычной, казалось бы, цензуре.
Появилась, как пишет Пастернак жене 12 сентября 1941 года, «усиливающаяся безысходность несносной душевной несвободы. Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность и душу. На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопрос<ительными> знаками, таращат глаза» и «с сотней ограничений» принимают малую часть сделанного (и это еще при том, что речь идет о переводах!). Пастернак говорит не только о себе – его бесит «непониманье простейших мелочей, споры разных редакций с Фединым по поводу вещей, за которые надо кланяться в пояс и говорить спасибо, а не морщить лоб и требовать исправлений. Всю эту дождливую ночь я об этом думал. Как быть, к чему стремиться и чем жертвовать? Нельзя сказать, как я жажду победы России и как никаких других желаний не знаю. Но могу ли я желать победы тупоумию и долговечности пошлости и неправде?»[9] Это и есть новая интенция (см. выше примеч. 7): сильнейшее желание автора, чтобы рукопись шла в печать без следов редакторского карандаша. Первую, возможно, попытку напечатать «Жди меня» Симонов делает на авось – в одной из армейских газет (скорей всего, предвидя или предчувствуя затруднения в центральной печати). Редактор газеты 44-й армии «На штурм» вспоминал о встрече в Новороссийске (Симонов вылетел как корреспондент «Красной звезды» в Краснодар утром 31 декабря 1941 года: предполагалось начало десантной операции в Керчи и Феодосии) в первые дни января 1942-го: «Когда Вы кончили читать “Жди меня”, я полушепотом повторял:
– Как хорошо… Как хорошо…
А Вы внезапно предложили:
– Хочешь, отдам… Возьми опубликуй…
Это было неожиданно. И я стал что-то бормотать, что в газету нужно героическое, а не интимно-лирическое. И бил себя по лысеющей голове потом, когда эти стихи опубликовала “Правда”»