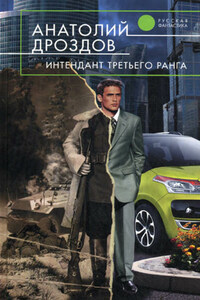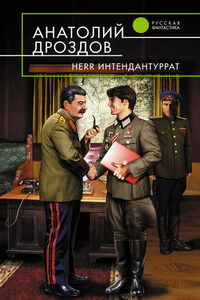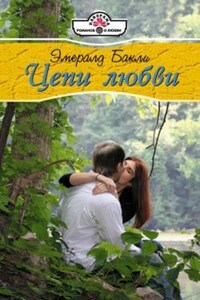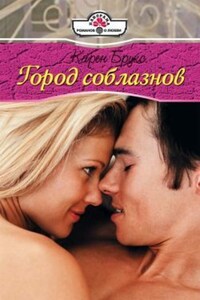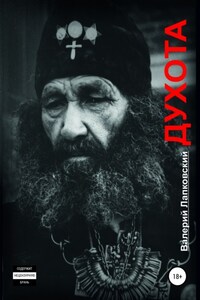Жердина была крепкая, толстая, раскалившаяся на солнцепеке, так что казалось, будто само дерево пышет жаром, стараясь сдержать янтарные смоляные слезы. Жарков потрогал ее, удивился, что такую хорошую жердь пустили на загородку. Старик не понял жеста. Видно решив, что приезжему неохота пачкать ручки, сам дернул слегу, вытягивая ее слева от стойки ворот, потом вторую, третью. Дорога была открыта. Жарков миновал ворота, старик провел следом за повод холеную блестящую лошадь.
– А что это у вас в такое пекло люди в поле? – спросил Жарков, вытирая испарину. – Народа не жалеет ваш председатель.
– Так это ж работники, – отмахнулся старик, – что им сделается? В этом году сено хорошее. Жаль будет, если перегорит.
– А работников не жаль? – буркнул себе под нос Жарков.
– Вы, Алексей Степаныч, ничего плохого не подумайте, – заторопился оправдать своих старый почтарь, – председатель у нас хороший, добрый, за всех сердцем радеет. И народ отзывчивый, открытый. А работники – это уж так повелось. Еще в тридцатые годы. А то вижу, что вы нас осуждаете.
– Да с чего бы мне вас осуждать, Егор Семеныч, – отозвался Жарков. Он снял куртку и шел рядом с подводой, на которой ехали его вещи: тощий фанерный чемодан и клетчатый узел. Хотелось снять сапоги и пристроить их рядом с чемоданом, а самому пойти пешком, зарываясь босыми ногами с золотистую пыль. Но Жарков крепился и не снимал. Деревню он знал хорошо. Городским стал недавно, как на учебу приехал. А до этого был таким же, деревенским. И знал, что покуда идет он за подводой по деревне, хоть, кажется, и не видать никого, а всякий через занавеску его сейчас рассматривает. И это первое впечатление потом колом не выколотишь, топором не обтешешь. А что это за «молодой специалист», раз без сапог ходит? Уважение в деревне приобрести трудно, удержать еще труднее, а потерять – и оглянуться не успеешь. За своих деревенские горой. Только чтоб в эти «свои» выбиться, всей жизни не хватит.
Жарков бывал по ту сторону занавески, знал, что творится сейчас в головах у деревенских, какие мысли бродят. Как перешептываются, обсуждают. Какую на первый взгляд снимут мерочку, по той и сошьют общее мнение.
Поэтому он шел выпрямившись, подняв голову. Пот бежал по позвоночнику, а ноги в сапогах горели огнем. И сейчас пожалел Алексей, что оставил на отвороте зеленый ромбик сельхозтехникума. Пшеничный сноп на значке так и сиял в солнечном луче, словно хвастаясь своей новизной, с головой выдавая неопытность хозяина. Поплавок прицепил для солидности, чтоб сразу видно было – молодой специалист, и только теперь понял, как смешно выглядит тот на его поношенном пиджаке. Но Егор Семеныч обращался к Жаркову почтительно, временами даже как будто заискивал. И Жарков убедил себя, что пользы от значка все-таки больше.
На дороге скребли лапами пыль пегие куры. Почтарь шел медленно, словно и не страдая от зноя, сонно шагала лошадка. Большая курица, не желая замечать ни людей, ни лошадь, продолжала копаться в пыли. Старик нагнулся, подцепил негодницу широкой ладонью и выдворил на лужайку. Ряба обиженно раскудахталась, хлопая крыльями.
– Ой уж, мать моя, как ты грозна. Вот как тебе Ревка на хвост наступит, – с улыбкой погрозил Егор Семеныч курице. И та сразу успокоилась, словно поняла его. Развернулась к обидчику пушистым кремовым галифе и уткнулась носом в траву, продолжая вполголоса выговаривать почтарю за непочтительное обращение.
– Чемпионка, – старик со значением поднял палец, – гордость колхоза. И хозяйки моей любимица. Иногда так и тянет поддать. Лезет под лошадь всякий раз, – доверительно сообщил почтарь. – Но поддашь разок, и Вера Юрьевна моя потом всю плешь выдолбит. Как это ее Советку сапогом поддели?
Жарков внимательнее присмотрелся к ковыряющей землю чемпионке, ничем не разнящейся с прочими курами, кроме несусветной наглости. На всякий случай решил первое время куриц обходить стороной. Кто ж знает, где у них еще чемпионка затешется. И мысленно отметил про себя, что неплохо бы разобраться, почему чемпионка не на птичьем дворе, а в деревне, возле домов гуляет. А еще повторил пару раз имя жены Егора Семеныча. Видно, на птичнике она верховодит. С такими надо ухо востро держать. Чуть ошибешься – склюют.
– А где птичник-то у вас, Егор Семеныч? – спросил Жарков.
– Ой, да вы не подумайте, что чемпионка-то у нас на дворе гуляет, – забеспокоился старик, словно прочитав мысли зоотехника. – У нас порой бабы на свой двор то куру, то порося, то теленка берут. Если захворал или какой особый пригляд нужен. Но председатель все знает. Он не допустит, чтобы колхозу был хоть какой убыток. У нас бывает и работников кто из родных на свой двор сводит. Переодеть, причесать. Но потом всех возвертают. Тут председатель бранится. Работник ведь не кура, понимать надо.
Старик сбился и расстроился, что наговорил чужаку лишнего. Жарков из его объяснений понял только, что при всем богатстве Знаменского порядки тут странные, если не вредные. Но сгоряча решать не спешил.
Потом шли молча. Алексей оглядывал избы, крепкие, выбеленные, ровные, как волчьи зубы. Плетни с крынками, подсолнухи. Резные наличники, которых не постыдился бы любой председатель. Деревня и впрямь была богатая. Жарков отметил про себя уходящую за деревню дорогу, рубчатую, как стиральная доска – видно, по ней прогоняли колхозный скот, к которому присоединялись и коровки колхозников. Решил, что, как устроится, первым делом наведается в коровник. Коров Алексей и в детстве больше всего любил. Если бы не Зорька, не выжить бы им с матерью. Но уж Зорьку давно сдали и съели, а сам Алешка не малец бесштанный, а специалист, зоотехник. А все кажется – без коровы и двор не двор.
Когда Алексей уже готов был, не выдержав, спросить у провожатого, долго ли еще идти, подвода нырнула с дороги вниз, под завесь березовых ветвей. И невдалеке Жарков увидел выкрашенный синим бревенчатый дом. Справа от крыльца была приколочена украшенная грубоватой, но затейливой резьбой вывеска, извещавшая, что в этом доме находится и сельсовет, и колхозное правление, и вся местная администрация.
В кабинете председателя было не намного прохладнее, но Жаркову показалось, что его сбросили со сковороды в теплую воду.
Председатель поднялся ему навстречу. Жарков был уверен, что о его появлении Савва Кондратьевич знал с того самого момента, когда почтарь выдернул из загородки первую слегу, да что там – едва подвода показалась на краю поля за деревней. Но указать приезжему, кто в доме хозяин, стоило. Поэтому Семышев не вышел на крыльцо, а оставался сидеть, пока Егор Семеныч не открыл дверь в кабинет, пропуская Алексея. И только потом председатель поднялся с неторопливым достоинством, подошел и по-отечески обнял нового зоотехника.