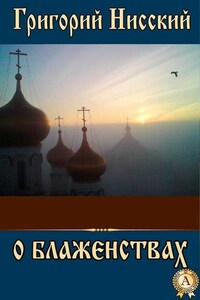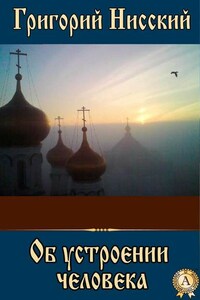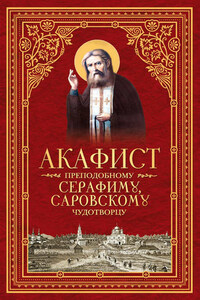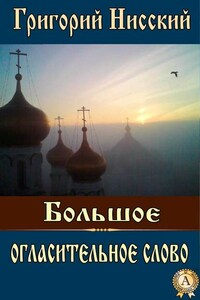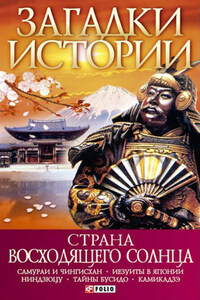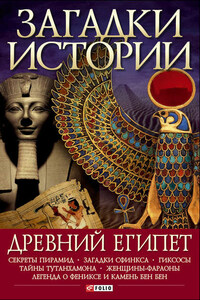Когда великий во святых Василий из жизни человеческой переселился к Богу и сделался для церквей общим поводом к плачу, оставалась же еще в жизни сестра и наставница, с поспешностью пошел я разделить с нею горе о брате. Болела у меня душа, сильно скорбя о таковой утрате, и сообщником в слезах искал я человека, который бы нес равное со мною бремя печали. Но, как скоро мы увидали друг друга, явившаяся перед глазами моими наставница сильнее возбудила мое страдание, потому что и сама она была больна едва не при смерти; она же, подобно сведущим в искусстве править конями, дав мне ненадолго увлечься порывом страсти, начинает потом сдерживать словом, словно некоей уздой, рассуждением своим успокаивая возмущенную душу, и произнесено было ею это апостольское изречение: не должно скорбеть о почивших (1 Сол. 4:13), потому что скорбь эта свойственна только не имеющим упования. И поскольку сердце мое кипело еще от печали, я сказал:.
Григорий. Возможно ли людям это исполнить, когда в каждом есть какое-то естественное отвращение от смерти? Кто видит умирающих, те с трудом сносят это зрелище, а к кому приближается смерть, те, сколько можно, от нее бегут. Да и господствующие законы признают ее крайним из преступлений и крайним из наказаний, поэтому какая же возможность почитать ни за что исшествие из жизни даже кого-либо из чужих, не только из близких, когда они оканчивают жизнь? К тому еще видим, продолжал я, что и все человеческое старание имеет в виду то, чтобы продлить вам время жизни, поэтому у вас и дома придуманы для жительства, чтобы тела в окружающем их воздухе не страдали от холода или жара. И земледелие что иное, как не заготовление потребного для жизни? Забота же о жизни, конечно, происходит от страха смертного. Что такое врачебное искусство? Отчего оно почтенно у людей? Не от того ли, что средствами своими, по-видимому, борется несколько со смертью? И брони, и щиты, и воинская обувь, и шлемы, и оборонительные оружия, и ограды стен и железные кованые ворота, и доставляющие безопасность рвы, и подобное тому, по чему иному делается все это, как не по страху смерти? Поскольку же естественным образом так страшна смерть, то легко ли послушаться того, кто велит остающемуся в живых не предаваться скорби об умершем?
Макрина. Что же, спрашивает наставница, что же тебе особенно само по себе кажется прискорбным в смерти? Ибо обычая неразумных недостаточно к плохому о ней мнению.
Григорий. Что же? Неужели не стоит того, чтобы и скорбеть, отвечал я ей, когда видим, что человек, дотоле живой и разговаривающий, вдруг делается бездыханным, безмолвным, неподвижным; все естественные чувства в нем потухают, не действуют ни зрение, ни слух, ни все прочее способствующее ощущению? Поднесешь ли к нему огонь или железо, станешь ли тело рассекать мечом, отдашь ли плотоядным зверям, зароешь ли в землю – при всем этом лежит он одинаково. Поэтому, когда усматривается в этом перемена, а та жизненная причина, которая находилась некогда в теле, вдруг делается невидимой и неприметной, подобно тому как в погашенном светильнике горевшее дотоле пламя и на светильне не остается, и не переходит куда-либо в другое место, но совершенно исчезает, – как тогда сделается возможным без печали перенести такую перемену тому, кто не имеет никакой явной опоры? Ибо, услышав об исходе души, хотя видим оставленное, однако же не знаем об удалявшемся, что такое было оно прежде по природе своей и во что перешло, так как ни земля, пи воздух, ни вода, ни другая какая стихия не показывают в себе этой силы, переселившейся из тела, по исшествии которой оставленное ею мертво и готово уже к тлению.
Макрина. Как скоро заговорил я так, наставница, помахав рукою, начинает речь: не такой ли страх смущает тебя и объем лет твою мысль, будто бы душа не вечно пребывает, но с разрушением тела и сама прекращает бытие?
Григорий. А как я по причине страдания не собрался еще с рассудком, то отвечал несколько смело, не разбирая строго того, что произношу. Ибо сказал: Божественные эти изречения подобны приказам, по которым вынуждены мы убедиться, что душа должна пребывать вечно, хотя не доказательством каким приводимся к таковому учению, а, напротив того, внутри нас ум, по-видимому, рабски по страху принимает повелеваемое, а не по произвольному какому-либо влечению соглашается со сказанным. Отчего и скорби наши об умерших делаются более тяжкими, потому что не знаем точно, существует ли еще сама по себе животворная эта причина, и где, и как существует, или нигде более ее нет. Ибо неизвестность действительно существующего равными делает предположения о том и другом; и, как многим кажется справедливым одно, так многим – противное тому, и иные у эллинов, приобретшие немалую славу по философии, держались этого мнения и подтверждали его.
Макрина. Оставь всяческие бредни, говорит она, в них приобретатель лжи к ущербу истины в виде вероятностей слагает предположения. А ты обрати внимание на то, что думать так о душе не что иное значит, как стать чуждым для добродетели и иметь в виду только настоящую приятность, а на жизнь умопредставляемую в вечности, по которой одна добродетель имеет преимущество, отложить и надежду.
Григорий. Но как, спросил я, твердым и непреложным сделается для нас мнение о вечном пребывании души? Ибо и сам чувствую, что жизнь человеческая лишится прекраснейшего своего достояния, разумею – добродетели, если не превозможет в нас несомненная вера в это. Ибо может ли иметь место добродетель в тех, которыми настоящая жизнь признается пределом бытия и которым после нее не на что больше надеяться?
Макрина. Поэтому надлежит разыскать, говорит наставница, что речь наша об этом может принять для себя за должное начало, и, если угодно, пусть за тобою останется защита противоположных учений, ибо вижу, что и твоя мысль готова к таковому состязанию. Пусть же таким образом – через противоположение – отыскано будет основание истины.
Григорий. После этого приказа, попросив ее не подумать, будто бы на самом деле спорим против истины, ибо напротив того стараемся придать твердость учению о душе по разрешении с этой целью сделанных возражений, сказал я: защитники противного мнения скажут, может быть, что тело, будучи сложным, конечно, разлагается на то, из чего составлено. По расторжении же сродства стихий в теле в каждой из них происходит, вероятно, стремление к состоящему с ней в свойстве, так как само естество стихий по какому-то необходимому влечению возвращает однородному свойственное ему. Ибо с теплым опять соединится что есть теплого в нас, и с твердым – что в нас землянистого, и с каждым из прочих качеств произойдет переход к сродному. Поэтому где же после этого будет душа? Ибо если кто скажет, что она в стихиях, то по необходимости согласится, что она тождественна с ними, потому что не могло бы произойти какое-либо смешение инородного с чуждым. И если это будет, то душа, конечно, окажется какой-то разнообразной, как входящая в смешение с противоположными качествами. А разнообразное не просто, но непременно умопредставляется в сложении, все же сложное по необходимости и разлагаемое, а разложение есть распадение состава, но распадающееся не бессмертно. В противном случае бессмертной можно было бы назвать и плоть, разлагаемую па то, из чего составлена. Если же душа есть нечто иное со стихиями, то где бытие ее предположит разум, когда в стихиях но разнородности она не народится, в мире же не существует ничего иного, в чем могла бы обитать душа сообразно со своей природой? А чего нигде нет, то, конечно, и не существует.