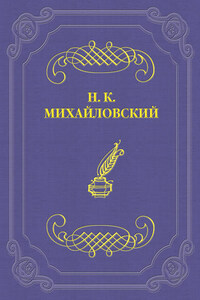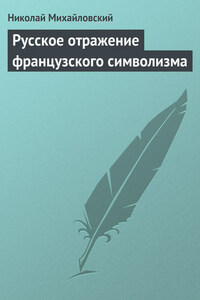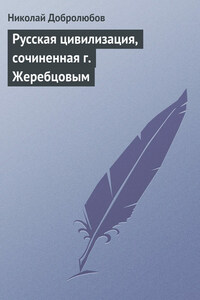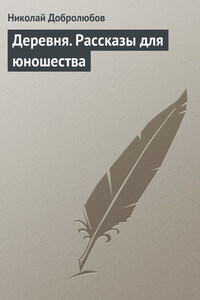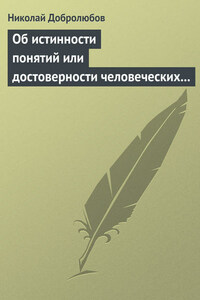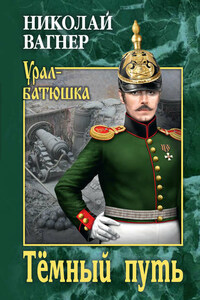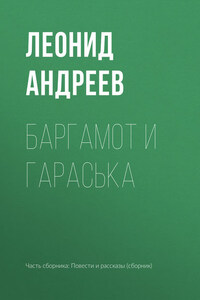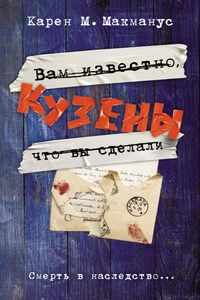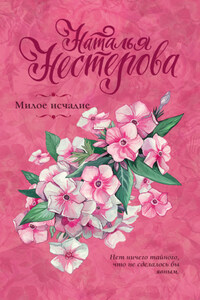Литературной критики нет!.. Нет литературной критики!.. Со времен Белинского русская беллетристика осталась без критического руководительства… Критика умерла с Добролюбовым… Последний выдающийся русский критик был Писарев…
Вот сетования, постоянно встречающиеся в разных «литературных обозрениях» и «критических очерках». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно авторы критических обозрений, люди, так сказать, специально приставленные к этому самому делу, жалуются на отсутствие критики, относя момент ее исчезновения более или менее далеко, смотря по образу мыслей обозревателя: один не хочет знать Добролюбова и останавливается на Белинском, другой стоит за Добролюбова, третий вспоминает о Писареве; попадаются и такие чудаки, которые считают последним критиком Аполлона Григорьева. Во всяком случае, сами себя эти разные обозреватели и авторы критических очерков в счет не ставят. И, разумеется, очень умно и добросовестно поступают, потому что какие же они в самом деле критики? Если бы они ими действительно были, так незачем бы им было жаловаться на те или другие недостатки современной критики, а тем паче на отсутствие ее, а просто взять да и явить миру образцы истинной критики. Белинский – беру имя, не подлежащее ныне никаким сомнениям, – был ведь в свое время один и не тратил, однако, много времени на печали об том, что он один, а прямо и просто делал свое дело. Ну, и ныне был бы. один, например, г. Чуйко – беру первого попавшегося из толпы обозревателей, потому что ведь все они приблизительно одинакового роста.
Если, однако, даже сами критики говорят, что критики нет, так, значит, ее действительно нет. Почему нет? Этого я не знаю. Может быть, просто потому, что такая уж неурожайная полоса настала, неурожай на людей, способных всесторонне оценить и выяснить беллетристическое произведение. Мудреного ничего нет. Неурожаи всякие бывают. Возьмите хоть того же Белинского и сообразите, что он у нас был один на несколько десятков лет. А может быть, критические таланты и родятся в изобилии, да течение судьбы отвлекает их к другим делам. Может быть, наконец, критики нет потому, что нет на нее спроса со стороны самой беллетристики. Перед Белинским были – легко сказать! – Пушкин, Гоголь, Лермонтов; перед Добролюбовым – Тургенев, Островский, Достоевский. А над чем развернуть свои, может быть, необычайно мощные крылья г. Чуйке или кому другому из обозревателей и авторов критических очерков? Согласитесь, что гг. Авсеенки да Маркевичи, Боборыкины да Летневы едва ли способны дать критической мысли достаточное возбуждение. Говорить об них, конечно, можно, пожалуй даже должно. Но ножу критического анализа тут не над чем отточиться, и очень простительно, если ленивый зевок перебивает работу несчастного обозревателя и рука его еле водит пером по бумаге, или если он отвлекается от прямого своего дела в разные стороны. Жестокие люди эти господа обозреватели, но надо тоже и их судить по человечеству…
Это я, впрочем, может быть, из эгоизма, милостивые государи, прошу вас судить обозревателей по человечеству. Дело в том, что я сам хочу записаться в этот цех и, прося у вас гостеприимства, натурально хочу заручиться и вашей снисходительностью. Я никогда не помышлял о роли критика, и если случалось иногда писать о том или другом явлении в области беллетристики, так только мимоходом и ввиду разных сторонних соображений. Теперь я желал бы заняться этим делом несколько пристальнее, не выходя, однако, из скромной роли обозревателя. Я не буду вам надоедать жалобами на отсутствие литературной критики или на те или другие ее оплошности и недостатки, но не обещаю и критики в широком значении этого слова. Я буду просто обращать ваше внимание на любопытные явления в области литературного творчества и, по мере сил и способностей, комментировать их. Вот и все.
К сожалению, мне приходится начинать свою летопись отметкой скорбного факта: Тургенев умер… Смерть эта никого не поразила, потому что давно уже стали появляться в газетах известия о тяжких страданиях маститого художника. Но, никого не поразив, весть о смерти Тургенева всех огорчила, и едва ли найдется хоть один образованный, «интеллигентный» русский человек, который при получении скорбной вести не помянул бы покойника добром за полученные от него художественные наслаждения и толчки работе мысли. Тургенев умер не внезапно – известия о его смерти ждали чуть не со дня на день. Он умер в таком возрасте, в котором европейские писатели и вообще деятели еще ухитряются быть молодыми духом и телом, но до которого редко доживают крупные русские люди, почему-то гораздо скорее изнашивающиеся. Тургенев дал русской литературе все, что мог дать, и какова бы ни была художественная красота его последних произведений, но никто уже не ждал от него чего-нибудь приблизительно равного по значению его старым вещам. Таким образом, все, кажется, сложилось так, чтобы по возможности смягчить утрату, придать ей сглаженные, не режущие и не колющие контуры. И все-таки больно… Слишком многим обязано русское общество этому человеку, чтобы с простою объективностью отнестись к его смерти, какие бы смягчающие обстоятельства ни предъявляли в свое оправдание судьба и законы естества. Но этого мало. Заслуга Тургенева не только в прошлом. Он был нужен и в настоящем, в нашем скудном настоящем.
Тяжело и мрачно было на русской земле в ту пору, когда Тургенев начинал свою литературную деятельность. Это были незабвенные сороковые годы. Мы, только по преданию знающие это время, имеем, однако, печальную возможность судить о нем с полною, так сказать, наглядностью. Как иногда вся жизнь умирающего сосредоточивается в его глазах, так все, что только заслуживает названия человеческой жизни, сосредоточивалось тогда в количественно ничтожной горсти людей мысли. И в числе их был Тургенев. В разные стороны разбрелась потом эта горсточка, и некоторые из ее представителей, дожив до того времени, когда опять стало тяжело на русской земле, играли и играют далеко уже не ту роль, какая выпала той горсточке. Кто устал, кто озлобился и даже рассвирепел, кто ударился в мистицизм и юродство, кто просто не понял истинного смысла событий чрезвычайной исторической важности, совершавшихся на Руси с сороковых годов. И Тургеневу случалось впадать в ошибки, порождать недоразумения и самому делаться их жертвою, как он сам с горечью печатно рассказывал, вспоминая литературно-политический эпизод с «Отцами и детьми». Но это были именно недоразумения, и Тургенев сам говорит о том удивлении и отвращении, с которым он, по приезде после «Отцов и детей» из-за границы, встречал любезности разных мракобесов1. Недоразумения порождались личными слабостями покойника, которые могут быть тому или другому более или менее досадны и неприятны, но не должны и просто даже не могут заслонить собою его громадные заслуги. Тургенев никогда не был Савлом2. Его никогда не было в рядах разношерстной литературной когорты гонителей истины и гасителей света, этой когорты палачей, поигрывающих плетью, шутов, позванивающих бубенчиками дурацкого колпака, и юродивых, самодовольно, напоказ бренчащих веригами. Он всегда оставался верен несколько неопределенным, но светлым идеалам свободы и просвещения, с которыми выступил на литературное поприще. Мимоходом сказать, этой неопределенности и вместе светозарности идеалов Тургенева вполне соответствовали некоторые особенности его несравненного таланта. Это был талант (независимо, конечно, от других его свойств), так сказать, музыкальный, а музыка, как известно, вызывает неопределенные, но хорошие, приятные, светлые волнения. Понятно, что эта музыкальность таланта Тургенева должна была особенно проявляться в мелких вещах, где она не заслонялась для читателя возбуждениями умственного и нравственного характера. Любопытно, что в передаче музыкальных ощущений Тургенев решительно не имеет соперников: состязание «певцов» в «Записках охотника», игра Лемма в «Дворянском гнезде», игра волшебной скрипки в «Песни торжествующей любви» – в своем роде шедевры. Дело тут те в слоге, не в «стиле», по крайней мере не в нем одном, а в специальной черте самого характера творчества, а эта специальная черта находилась в свою очередь в тесной связи со всем душевным обликом художника, неопределенным, но светлым.