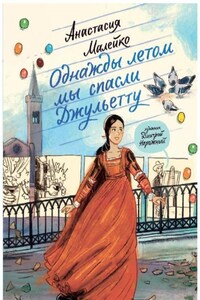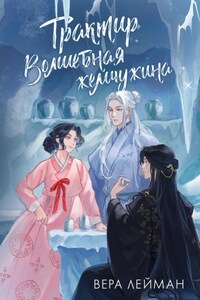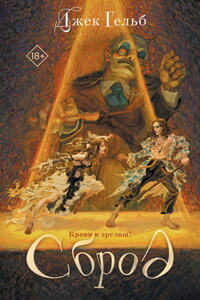24 мая, воскресенье
Начало. Про комиксы и все остальное
Думаю, устройство Вселенной требует доработки.
Эта мысль пришла мне однажды по дороге из школы.
Дорога идет через парк. Листья, деревья, птицы. Иногда попадаются белки. Уток нет.
Это я к тому, что вопрос Холдена Колфилда: «Куда деваются утки в Центральном парке, когда пруд замерзает?» – меня не волнует. Этот Холден был странным парнем. Такой же, как сам Сэлинджер. Я даже нарисовал начало комикса про этого Сэлинджера – как тот живет в лесу и с ним происходят всякие вещи. Идет он, к примеру, в свой бункер, как обычно, утром – работать, новый рассказ писать. В бункер он ходил каждый день: позавтракает – и к себе в убежище. А по дороге к бункеру замечает странные следы ботинок с протекторной подошвой. Неужели кто-то из журналистов проник в его лес? Рисую вопрос в облаке, Сэлинджер смотрит в кадр. Затем он осторожно идет по следу. Ветки хрустят, птицы взлетают в тревожное небо.
В этот момент подходит Она и спрашивает, сделал ли я уроки. Сначала уроки, потом – Сэлинджер. И не важно, что тебе уже четырнадцать. Сама Она не делает уроки, а ходит по дому в шляпе или в пилотке, как стюардесса. Приносит с улицы кем-то выброшенные стулья и торшеры. Говорит, что это не мусор, а арт-объекты. Я возражаю: арт-объекты должны стоять в музее, а не в квартире, тем более если в ней всего две комнаты. А Она: музей может быть где угодно. Интересно, что бы сказал на это Сэлинджер? Сел бы в кресло. Прислушался к лесным шорохам. Рисую большое кресло среди деревьев, неподалеку – дом, чуть подальше – бункер. Ну, это только называется «бункер», а по-настоящему – еще один дом, выкрашенный в зеленый цвет. Зеленый дом. Так называет его дочь Сэлинджера Маргарет в своих воспоминаниях. Думаете, я читал воспоминания Маргарет? Нет, конечно. Это Она все читает, потому что работает на радио и ведет программу о писателях. Посмотрела на мои комиксы про Сэлинджера и говорит: «Здесь должен быть еще один дом. Зеленый. Там он работал». И опять пилотку надела.
Так вот, про Вселенную. Школу, думаю, надо отменить. Открыть секции по интересам. Вот есть у меня способность к рисованию комиксов – значит, я хожу в школу комиксов, и мы целыми днями рисуем. Комиксы – это лучшее, что есть в жизни и в искусстве. Никакая живопись с ними не сравнится. Вот цветок. Пусть будет пион. Или роза. Что может живопись? Натюрморт – вот что она может. Букет цветов в вазе на белой скатерти. А комикс про этот букет – история про то, как цветы сажали, поливали, срезали и ставили в вазу с водой. Или другая история – как кто-то купил вазу, поставил ее на стол, вышел в соседнюю комнату, а когда вернулся – там букет.
Сегодня я проснулся от громкого мужского голоса. Оказывается, Она включила аудиозапись рассказа «Любовь к жизни» Джека Лондона. Чтобы я с утра слушал про то, как один парень был до того голодным, что все время ел болотные ягоды, камышовые луковицы и сырых пескарей. А в конце убил больного волка. И выжил-таки. Иду, сонный, на кухню, делаю себе кофе, а он, тот, что ползет по канадской тундре на юг, все время отвлекает, не дает спокойно позавтракать. То он ногу поранил, то потерял ружье и шапку, в которой спрятаны спички, то преследует куропатку, то рыбку вылавливает из ручья… А Она ходит и многозначительно на меня смотрит. Это чтобы я глубоко прочувствовал весь ужас положения того, кто ползет, и всю безопасность своей четырнадцатилетней жизни.
Я, конечно, понимаю. Выживание, любовь к жизни и все такое. Хотя, когда я год назад сжег в ванне все ее деревянные палочки для мороженого, ей это не понравилось. А ведь я, может, тоже выживал. Представлял, что ползу по тундре на юг – и нет ничего, чтобы разжечь костер, кроме этих палочек. Но ей не понравилось, потому что эти палочки были как раз арт-объектами, воспоминанием о детстве. Но ведь если бы тот, из Джека Лондона, умирал в тундре от холода, то уж, наверное, сжег бы все свои арт-объекты вместе с воспоминаниями.
Она – это мама. Ей нужно, чтобы я отвечал ей ясно, четко и без запинки на все вопросы. На радио же как? Там не молчат, все время что-то вещают – то новости, то музыка, то передачи про путешествия, то встречи с интересными людьми. Она привыкла, что на все вопросы там известны ответы, и требует от меня того же – чтобы я отвечал и поражал всех своим интеллектом.
Вот совсем недавняя история. Проходили мы Чехова, «Толстый и тонкий».
Она спрашивает:
– Ну и как тебе?
Я говорю:
– Ничего, интересно, особенно концовка.
Она не отстает:
– А подробнее? Как тебе чеховский язык, стиль?
– Ну, – говорю, – стиль как стиль. Хороший стиль. Правдивый.
Она обиделась.
– Что значит «правдивый»? – спрашивает. – Да у Чехова нет ни одного лишнего предложения, ни одного слова лишнего нет! Каждая деталь о чем-то важном сообщает. И вообще, Федор, знаешь ли ты, как умер Чехов?
Федор – это я. Да, согласен, имя дурацкое. Разве можно называть человека Федором в двадцать первом веке? Ну так вот, знаю ли я, как умер Чехов.
– Как? – спрашиваю.
Молчит. Ждет, пока я сам докопаюсь до истины.
Докопался я довольно быстро, минут через пять. Даже не представляю, как бы искал про смерть Чехова, если бы жил в прошлом веке. Пришлось бы идти в библиотеку, рыться там в книжках и, может быть, к концу дня найти. А сейчас открываешь «черную коробку» – ноутбук. Или берешь в руки «черную ладонь» – телефон. Печатаешь в строке свой вопрос про Чехова – и готово. Чехов долго болел туберкулезом. В ночь с первого на второе июля 1904 года он был в Баденвейлере. Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сказал по-немецки: «Ich sterbe» («Я умираю»), выпил шампанское, лег на левый бок и умер.
Не знаю почему, из-за истории про шампанское или из-за ее слов про важные детали, но «Толстого и тонкого» я перечитал.
Деталей там было много. Губы, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Никогда бы такое не придумал. И главное – от одного пахнет хересом и этим… флердоранжем, а от второго, тонкого, – ветчиной и кофейной гущей. В «черной коробке» я нашел про херес. Это крепленое вино, которое делают в Испании, из винограда «паломино», «педро хименес» или «москатель». А флердоранж – белый цветок померанцевого дерева. Невест им украшали, духи делали и даже пили померанцевую воду.
«То есть Чехов сразу, с первых слов, дает понять, что толстый – человек не простой, херес испанский пьет и флердоранжем балуется, – вдруг зазвучал у меня в голове голос нашего учителя по литературе Евгения Евгеньевича. – Тонкий же – обычный, я бы даже сказал, стандартный. Потому что кофе и ветчина – вещи известные, всем знакомые».