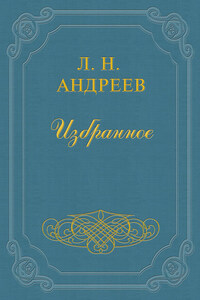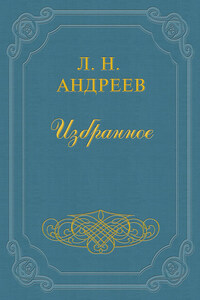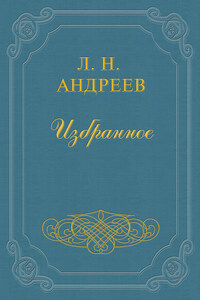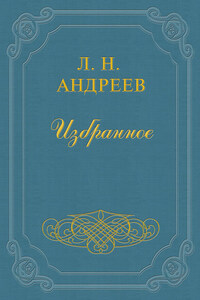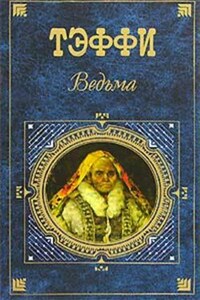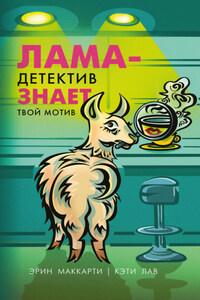На океан ложатся мглистые февральские сумерки. Недавно был снег, но растаял, и теплый воздух тяжел и влажен; в глубину материка неслышными толчками гонит его морской юго-западный ветер и на смену приносит свой – душисто-острое сочетание морской соли, безграничной дали, ничем не нарушаемого, свободного и таинственного простора. В той стороне, где должно садиться солнце, происходит бесшумное разрушение неведомого города, неведомой страны: в огне и дыме рушатся здания, пышные дворцы с башнями; целые горы расседаются бесшумно и клонятся медленно, падают долго. Но ни крика, ни стона, ни грохота падения не доносится на землю – чудовищная игра теней совершается бесшумно; и безгласно приемлет ее, отражая слабо, к чему-то готовый, чего-то ждущий великий простор океана.
Тишина и в рыбацком поселке. Рыбаки ушли на ловлю, дети спят и только беспокойные женщины, собравшись у домов, разговаривают тихо, медлят отойти ко сну, за которым всегда стоит неизвестность. Свет моря и неба позади домов, и дома и темные крыши их черны и остры, и нет перспективы: и дальние и близкие стоят рядом, как бы входят один в другой, обнимаются крышами и стонами, жмутся друг к другу, охваченные тем же беспокойством вечной неизвестности. Тут же и маленькая церковь, боковая стена ее, сложенная грубо из гранитных необтесанных камней, с глубоким затаившимся окном.
Осторожный звук женских голосов, смягченных беспокойством и наступающей ночью.
– Сегодня можно спать спокойно. Море тихо, и прибой бьет как часы на колокольне у старого Дана.
– Они придут с утренним приливом. Муж сказал, что они придут с утренним приливом.
– А может быть с вечерним: лучше думать так, чтобы не ждать напрасно.
– Но печь надо топить.
– Когда мужчин нет в доме, то не хочется зажигать и огня. Я никогда не зажигаю огня, даже когда не сплю, мне кажется, что огонь приносит бурю. Лучше притаиться и молчать.
– И слушать ветер? Нет, это страшно.
– А я люблю огонь. Я и спать хотела бы при огне, но муж не позволяет.
– Почему не идет старый Дан? Уже пора вызванивать часы.
– Сегодня Дан будет играть в церкви: он не терпит тишины, как сегодня. Когда море ревет, Дан прячется и молчит – он боится моря. Но стоит волнам умолкнуть, Дан тихонько выползает и садится за свой орган.
Женщины тихо смеются.
– Он упрекает море.
– Жалуется на него Богу. Он очень хорошо жалуется: хочется плакать, когда он рассказывает Богу о погибших в море. Мариетт, ты видела сегодня Дана? Отчего ты молчишь, Мариетт?
Мариетт, приемная дочь аббата, в доме которого живет и старый Дан, органист. Задумавшись глубоко, Мариетт не слышит вопроса.
– Мариетт, ты слышишь? Анна спрашивает тебя, видела ты сегодня Дана?
– Да, кажется. Не помню. Он в своей комнате. Он не любит уходит из комнаты, когда отец уезжает на рыбную ловлю.
– Дан любит городских священников. Он никак не может привыкнуть к тому, что священник ловит рыбу, как простой рыбак и уходит в море с нашими мужьями.
– Он просто боится моря.
– Как хотите, но, по моему мнению, у нас – самый лучший в мире священник.
– Это правда. Я его боюсь, но люблю, как отца.
– Прости меня Бог, но я гордилась бы и радовалась постоянно, если бы была его приемной дочерью. Слышишь, Мариетт?
Женщины тихо и ласково смеются.
– Ты слышишь, Мариетт?
Мариетт отвечает:
– Слышу. Но разве вам не надоело смеяться все над одним и тем же? Да, я его родная дочь – неужели это так смешно, что вы будете смеяться всю жизнь!
Женщины смущенно оправдываются.
– Но он сам смеется над этим.
– Аббат любит пошутить. Он так смешно говорит: моя приемная дочь, а потом бьет кулаком и кричит: родная, а не приемная. Пусть хоть лопнет папа от злости; а она моя родная дочь.
Мариетт. Я никогда не знала моей матери, но ей было бы неприятен этот смех. Я чувствую это.
Женщины замолкают. Равномерно и глухо с правильностью большого маятника, ударяющего о берега, бухает прибой. Все еще падает на небе неведомый город, объятый огнем и дымом, и все не может упасть; и ожидает море. Мариетт поднимает опущенную голову.
– Ты что хочешь сказать, Мариетт?
– А тот не проходил? – спрашивает Мариетт тихо.
Женщина пугливо говорит.
– Тише! Зачем вы говорите о нем, я его боюсь.
– Нет, не проходил.
– Прошел. Я видела из окна, как он проходил.
– Ты ошиблась, это был кто-нибудь другой.
– Кому здесь быть другому? И разве можно ошибиться, если хоть раз увидишь, как он шагает. Других таких шагов нет ни у кого.
– Так ходят морские офицеры, англичане.
– Нет, разве я не видала в городе морских офицеров? Они ступают твердо, но открыто, им может поверить и девушка.
– Ой, смотри!
Боязливый и осторожный смех.
– Нет, не смейтесь. Он идет и не смотрит под ноги, он ставит ногу так, будто сама земля должна бережно принять ее и поставить. А если камень? – у нас много камней.
– При ветре он не сгибается и не прячет головы.
– Ну, да. Ну, да. Он не прячет головы.
– Правда ли, что он красив? Кто видел его близко?
Мариетт. Я.
– Нет, нет, не говорите о нем, я всю ночь не усну. С тех пор, как они поселились на горе, в проклятом замке, я не знаю покоя, я умираю от страха. Да и вы также, сознайтесь.
– Ну, не все.
– Зачем они пришли сюда? Их двое – что им делать в нашей бедной стране, где только камни да море?
– Они пьют джин. Матрос каждое утро приходит за джином.
– Это просто пьяницы, которые не хотят, чтобы им мешали пить. Когда матрос проходит по улице, за ним остается такой запах, как будто пронесли открытую бутылку с ромом.
– Но разве это дело – пить джин? Я их боюсь. Где тот корабль, который привез их? Они явились с моря.
Мариетт. Я видела корабль.
Женщины изумленно расспрашивают ее.
– Ты? Отчего же ты ничего не говорила нам? Расскажи, что ты знаешь.
Мариетт молчит. Вдруг одна из женщин испуганно вскрикивает:
– Ай, смотрите! У них зажегся огонь. В замке огонь!
Налево, в полумиле от поселка, вспыхнул слабый огонь, красный уголек в синеве сумерек и дали. Там на высокой скале обрывающейся к морю, стоит древний замок, жуткое наследие седой и таинственной старины. Давно разрушенный, давно мертвый, он сливается со скалою, продолжает и обманчиво заканчивает ее зубчато-ломанной линией своих бойниц, провалившихся крыш, полуосыпавшихся башен. Сейчас и скалы, и замок одеты дымчатой пеленой сумерек и дали, воздушны, лишены тяжести и почти также призрачны, как те чудовищные громады зданий, что громоздятся и распадаются бесшумно в высоком небе. Но те падают, а этот стоит, и в сплошной синеве его закраснелся живой огонь – на него так же странно и жутко смотреть, как если бы в облаках зажгла огонь человеческая рука.
Повернув головы, испуганно смотрят женщины.
– Вы видите? – говорит одна. – Это еще хуже, чем огонь на кладбище. Кому нужен свет среди гробов?