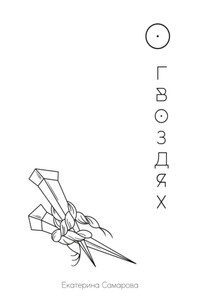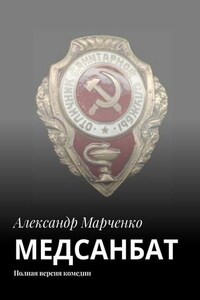– Пап, ну, пап, сколько можно таскать эти проклятые вёдра? – загнанно простонал сын.
С огромным усилием, надрывно, словно подкову разгибая скрюченную спину, он взглянул вверх на обезумевшее вконец вёдро без малейших намёков хотя бы на жалкую лёгкую попытку обзавестись облачком. Где там? Даже синева неба выцвела до белёсости вокруг раскаленной жаровни Светила настолько, что только по самым краям, ближе к окоёму, слегка голубея.
Спустив глаза на землю, посмотрел на сына: тоще-тщедушного как раз к 14-ти годикам его стремительно погнавшего в рост подростка, потом истекающего сейчас…
К школе надо новую одёжку готовить – майская коротка неисправимо станет – отупело подумал он.
– Ладно, езжай, городской, покатайся на велике, охладись на скорости, только в Днепр не бросайся сгоряча, простынешь в момент. Но недолго, часа два, чтоб вернулся к ужину.
Покуривая на лавочке, смотрел вослед сыну, бодро покатившему по дороге в соседнюю деревню, затем зашел в сырую прохладу избы поцедить (никак нельзя было напиться взахлёб, чтоб хуже не стало) холодной пока воды, недавно принесенной с колодца. Из второй комнаты привычно глянуло на него зеркало в трюмо, как и на всех, входящих в дверь с террасы сквозь первую Фпроходную горницу. Подойдя вплотную, вспомнил как однажды среди столь же изнуряющей жары, таким же подростком увидел себя с обезьянними, ниже колен руками, вытянутыми до столь неестественной длины такими же бесконечными вёдрами, заливающими водой жадную ненасытность растрескавшейся за бесконечно без дождливые дни в самом сердце июля глинистую, худородную землю.
Хорошо хоть сын городской сразу, с рождения – не предстоит ему в детстве эта пресловутая канительная борьба за личный домашний урожай, от спасения которого именно сейчас и здесь, как и в прошлые годы и века, зависит сама жизнь в бесконечно-длинные, тоскливо-заунывные зимние дни. Веками так сложилась народная мудрость – летний день зимний кормит. И губит многовековых захватчиков, казалось бы самой короткой дорогой шагающих к сердцу страны, и всегда просчитывающихся в самых разумных, казалось бы, в планах своих дальше мечты шагнувших просто из-за упёртости этой невзрачной земли и воистину лошадиного труда её защитников…
А раньше и коров держали, и овец, и волки выли голодно, раскапывая хлипкие деревенские крыши в борьбе за тяжкую долю свою.
И, само собой, по весне заводили поросеночка, пятачок которого все лето тыкался любопытно во все вокруг, счастливым добродушным похрюкиванием сопровождая каждое новое открытие своё. Не ведало дитя природы, что уже при снеге, в декабре, предстоит ему быть заколотым, опаленным соломой со сжатых полей на костре, разведённым на занесённым снегом картофельном поле, а после, разделанным и подвешенным за веревку на прочной балке в холодном хлеву от вездесущих мышей, для спасения людей кормить их собой в голодную и холодную зиму, истончаясь к весне до скелета.
Те времена миновали давно. Нынче только огород да с десяток кур из живности держали – да и ними хлопот хватало дряхлеющим старухам на вымирающей земле – вечно обречённой защитницы столицы пресловутой.
От такого иступляющего идиотизма деревенской безнадёги всеми правдами и неправдами перебиралась молодежь в города, едва в оттепель шанс появился, когда колхозникам стали паспорта давать (только в шестидесятые 20-го века, когда по-настоящему и кончилось пресловутое крепостное право, отменённое якобы аж в 1861-м).