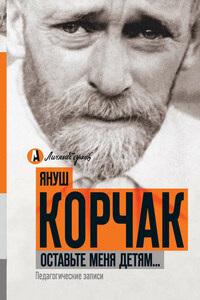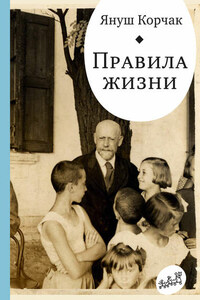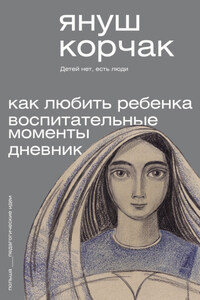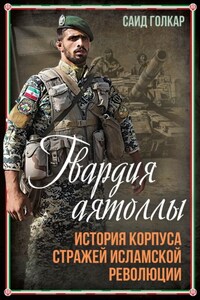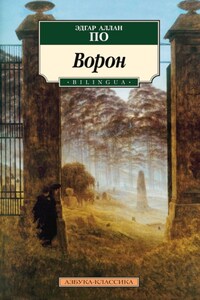Мемуары – литература унылая и мрачная. Художник или ученый, политик или диктатор вступают в жизнь, полные честолюбивых намерений, мощных, безупречных, победных деяний – живая энергия действия. Они возносятся вверх, преодолевают препятствия, расширяют сферу своего влияния, вооружаясь опытом и приобретая единомышленников; все плодотворнее, все легче, этап за этапом стремятся они к своим целям. Так проходит десять лет, иногда – два-три десятилетия. А потом…
Потом накапливается усталость, потом – шажок за шажком, но упрямо по той же, однажды выбранной дорожке. Удобным проторенным путем, с меньшим пылом и мучительной убежденностью, что все не так, что слишком мало [сделано][1], что в одиночку куда труднее. Прибавляется серебра в волосах и морщин на некогда гладком и дерзновенном челе, а глаза все слабее, кровь все медленней кружит в теле, и ноги еле волокутся.
Что поделать – старость.
Один упрямится и [не] сдается, жаждет, как и раньше, даже сильнее, лишь бы успеть. Он обманывается, защищается, бунтует и мечется. Другой же в скорбном смирении не только от всего отрекается, но даже идет на попятную.
Я больше не могу…
Даже пробовать не хочу…
Не стоит и пытаться…
Я уже ничего не понимаю…
Кабы вернули мне урну с пеплом жизни, что я прожигал, энергию, растраченную на заблуждения, расточительный размах прежних сил…
Новые люди, новые поколения, новые нужды. Вот уже и его все раздражают, и он всех раздражает – и сразу недопонимание, а потом уже и постоянное непонимание: эти их жесты, их шаги, эти их глаза и белые зубы, и лоб гладкий… ладно, хотя бы помалкивают…
Все и всё вокруг, и земля, и ты сам, и [новые] звезды говорят тебе:
– Довольно… Тебе – закат… Теперь мы… Тебе – итог… Ты твердишь, что мы всё [делаем не] так… Мы и не спорим – тебе лучше знать, ты умудрен опытом, но позволь нам самим попробовать.
Таков порядок жизни.
Таков и человек, и зверь, да и деревья, наверное… Камни – другие, но кто знает; теперь их воля, мощь и время.
Тебе сегодня – старость, а завтра – дряхлость.
И все быстрее хоровод стрелок на циферблатах.
Сфинкса каменный взор задает извечный вопрос:
– Кто утром на четырех ногах, в полдень резво на двух, а вечером – на трех?
Ты. Опираясь на палку, загляделся на гаснущие холодные лучи заходящего солнца.
В собственной биографии я попробую по-другому. Может, это удачная мысль: вдруг получится, вдруг именно вот так нужно.
Когда копаешь колодец, то начинаешь работу не со дна; сначала широко разметываешь верхний слой, откидываешь землю, лопата за лопатой, не ведая, что там, глубже: сколько переплетенных корней, какие препятствия и провалы, сколько досадных, закопанных другими, да и тобой позабытых камней и разных жестких штук.
Решение принято. Довольно сил, чтобы начать.
Но бывает ли вообще на свете завершенная работа?
Поплюй на ладони. Покрепче ухвати лопату. Смелее.
Раз-два… раз-два…
– Бог в помощь! Дедуль, ты чего задумал?
– Сам видишь. Ищу подземный источник, живительную чистую стихию вызволяю, воспоминания расчищаю.
– Тебе помочь?
– О нет, голубчик мой, тут каждый сам должен постараться. Никто не придет на выручку, никто тебя не сменит. Все остальное можем делать вместе, коли ты мне еще доверяешь и сколько-нибудь да ценишь. Но эту свою последнюю работу я сам должен сделать.
– Дай Бог сил…
Вот так-то…
Я намерен ответить на лживую книгу фальшивого пророка. Много та книга сотворила зла.
***
Так говорил Заратустра[2].
И я беседовал – имел честь с Заратустрой беседовать. Его премудрые посвящения в тайны, тяжелые, жесткие, острые. Тебя, бедный философ, завел бы он за темные стены и частые решетки дома скорби, да ведь так оно и было. Вот же оно, черным по белому:
«Ницше умер в разладе с жизнью – сумасшедшим».
Я же в своей книге хочу доказать, что умер он в мучительном разладе с истиной.
Тот же самый Заратустра меня учил другому. Может, у меня слух поострее, может, я вслушивался внимательнее.
В одном мы сходимся: дороги (и мастера, и моя – ученика) тяжкими были. Поражения куда чаще побед, много кривых дорожек, а значит, время и силы потрачены впустую. Казалось бы, впустую.
Ибо в час расплаты – не в одинокой келье самого скорбного лазарета […] и бабочки, и кузнечики, и светляки, и солист в высочайшей синеве – жаворонок.
***
Господь благ.
Спасибо тебе, добрый Боже, за луга и красочные закаты, за живительный вечерний ветерок после знойного дня пахоты и труда.
Спасибо, добрый Боже, что так мудро придумал: цветы пахнут, светлячки светят на земле, а искры звезд – на небе.
Как же радостна старость.
Как приятна тишина.
Сладкий отдых.
«Человек, безмерно Тобой одаренный, Тобой сотворенный, Тобой же спасенный…»[3]
Ну, довольно.
Начинаю.
Раз-два.
Греются на солнышке два деда.
– Вот скажи, старый хрыч, как это ты еще умудряешься жить?
– Ну так я жизнь вел солидную, размеренную, без потрясений и переворотов. Не пью, не курю, в карты не играю, за юбками не бегал. Никогда не голодал, не перерабатывал, ничего наспех не делал, ни во что рискованное не встревал. Всегда все вовремя и в меру. Сердца не надрывал, легкие не раздирал, голову себе не морочил. Умеренность, спокойствие и рассудительность. Вот я и жив до сих пор. A вы, коллега?
– А я-то немного по-другому. Раздают синяки да шишки – я тут как тут. Я еще сопляком был, как пошли первые протесты да перестрелки. И ночи бессонные были, и тюрьма: ровно в такой дозе, чтобы молокососа хоть немного пообтесать-укоротить[4]. Потом война. Так себе, ничего особенного. Далеко пришлось идти, за Уральские горы, за байкальские моря, за [земли] татар, киргизов, бурятов, до самых китайцев. Только докатился я до маньчжурской деревни Таолайчжоу, глядь – опять революция. Потом ненадолго мир-покой воцарился. И водку я пил, как не пить, и жизнь, не мятый рубль, на карту ставил. Только вот на девчонок времени у меня не хватило… а так, кабы не это, да не то, что стервы они, до ночей охочие, да еще и детей рожают… Пакостная привычка. Один раз я попался. Потом на всю жизнь охоту отбило. Хватит с меня. И угроз, и слез. Сигареты курил без счету. И днем, и ночью, и в размышлениях, и в спорах, одну от другой прикуривал, дымил как паровоз. На мне живого места нет. Спайки, боли, грыжи, шрамы, весь на ходу разваливаюсь, скриплю, а вот ведь живу и пру напролом. И еще как! Спросите тех, кто мне поперек дороги встает. Как дам леща – мало не покажется. И сейчас бывает, целая банда меня на цыпочках по стеночке обходит. Да у меня и друзья-приятели есть.