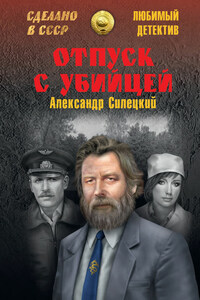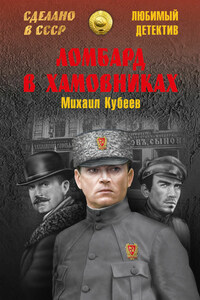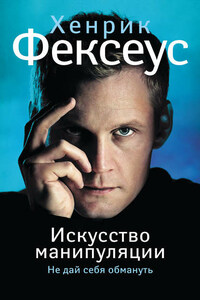Он приехал.
Поезд в последний раз дернулся и встал.
В раскрытое окно – вагон-то, слава богу, старенький, без этих модных, вечно неработающих ухищрений – мигом ворвался особый, вокзальный гомон: все спрашивали и отвечали разом, лязгали тележки носильщиков, со всех сторон гнусаво грохотали репродукторы и слышались свистки, сопровождаемые тягостно-раскатистым шипеньем, точно невесть кто, громадный, но невидимый, обиженно вздыхал…
Он не любил эту суету, традиционно связанную с высадкой-посадкой.
Ему так часто приходилось ездить по стране (без экстренной нужды он самолетами предпочитал не пользоваться), да и за ее пределами, что давно уже утратилось то восторженно-приподнятое чувство, которое испытываешь, когда поезд делает остановку и надо наконец-то выходить…
Смешно, подумал он, я и теперь воспринимаю свой приезд, как будто у меня простая деловая командировка. Но ведь нет же, нет, – отпуск!
Место от столицы, в общем, удаленное, а в расписании указано, что поезду стоять здесь черт-те сколько – целых двадцать пять минут.
Неписаный закон: чем далее от центра – тем длиннее остановки. Может, так и надо, чтоб хоть этим компенсировать синдром глубинки… Впрочем, не настолько уж глубинка: все-таки – районный центр. Но – не ближний. И таким пребудет навсегда…
Он встал и сдернул с полки туго запакованный баул внушительных размеров.
Потом надел пиджак, поправил галстук и, задвинув до упора дверь, на несколько секунд застыл перед купейным тусклым зеркалом.
Чтобы увидеть себя хорошенько, ему пришлось даже несколько подогнуть колени: ничего не поделаешь, метр девяносто восемь – не больно-то удобный рост, жизнь в основном налажена для более, так скажем, усредненных. Слава богу, лишний вес пока не тяготил, хотя бы это…
Спать в поездах, конечно, было неудобно. Но на самолетах он себя и вовсе чувствовал паршиво.
Да к тому же не в любую точку есть авиарейсы! А в глубинку добираться как-то надо…
На него из зеркала взглянуло заспанное, хмурое, с глубокими морщинами на лбу, землисто-бледное лицо, хотя и сохранившее черты неистребимой моложавости, которая бывает свойственна довольно многим обитателям столицы в энном поколении, – лицо юнца до старости: с таким порой и хочешь выглядеть солидно, а не получается…
Поэтому, наверное, для пущей важности, и отрастил себе он бороду – довольно пышную, в кудрявых завитках, с неблагородными – то там, то здесь – седыми островками. Впрочем, у него все в роду по мужской линии седели очень рано, зато жили долго, вот что интересно…
И поскольку был он от рождения брюнет, то эти серебристые пучки смотрелись натуральными проплешинами, отчего вся борода имела вид вполне клочной и неухоженный.
Как, между прочим, и густая шевелюра – тоже с прядями седых волос.
Его это, понятно, удручало, ибо бороду свою он искренне любил и, вопреки поверхностному впечатлению, везде и постоянно, как мог, холил. И расстаться с эдаким богатством попросту не смел: уж слишком долго, целых двадцать лет, он прятал в бороду свое лицо – с тех самых пор, как поступил в московский университет. И патлы, малость подувядшие с годами, очень редко, если уж совсем приспичит, отдавал во власть цирюлен – эти заведения он ненавидел с детства.
«Так-то, Михаил Викторович, друг мой Невский, – поддразнил он сам себя, скептически уставясь в зеркало, – вам тридцать восемь годиков, а вы все – как мальчишка. Бородатый и патлатый. И таким вас в гроб положат. Красота! Хотя не грех бы и подкоротить чуток. Людей пугать – зачем?»
Он задумчиво, привычным жестом прихватил бороду указательным и большим пальцами, как краб клешней, немного подержал ее, оттягивая вниз, и вслед за тем легонько покачал головой.
Потом достал из кармана пиджака красивую расческу и тщательно все причесал, а бороду затем еще помял в ладонях и, ласкаючи, пригладил.
Все равно своим сегодняшним видом он остался весьма недоволен.
«Может, вот это недовольство – и есть симптом того, что скоро уже сорок, ну, а после сорока я понемножечку начну стареть – неожиданно, но как-то очень вяло посетовал он про себя.
– Эх, галстучек у вас шикарный… Артистический! М-да… В санаторий, стало быть? – приятельски и деловито подмигнул ему сосед, как будто на прощание уточняя двадцать раз проговоренное за предыдущий вечер.
– В санаторий. Именно. В «Зеленый рассвет». Большая кузница здоровья.
Сосед важно покивал:
– Да, это точно, дело-то полезное, да… Здоровье – это прежде всего. Ну и публика… Там, в санаториях, бедово. Я вот тоже – как-то раз… Да… Санаторий… А мне – дальше. Мне домой. Я говорил?
– Да неужели?! – не желая обижать соседа, подивился Невский. – Вы смотрите… Ну, счастливо оставаться! Рад был познакомиться.
– А это уж – взаимно. Отдыхайте!
Повесив за длинные лямки баул через плечо, он вышел из купе, миновал коридор, простился в тамбуре с проводником и не спеша спустился на платформу – очень низкую, как водится на всех такого рода станциях.
Он совершенно замотался на работе, и, когда пришла пора думать об отдыхе, оказалось, что путевок нет. Ни в Прибалтику, ни в Крым, ни на Кавказ… Впрочем, всяческие модные и шумно-людные курорты он не так чтоб и любил. И потому, едва вдруг замаячила путевка в этот санаторий (просто – шалая путевка, ведь свое отменное здоровье он покуда и не думал поправлять!), он сразу ухватился за такое предложение, резонно положив, что от добра добра не ищут.
Он любил летнюю пору – самое лучшее время года, о чем, убежденно, всем и сообщал. И если лето проходило в городе, в дурацкой спешке, в суете, в какой-то мелочной, не позволяющей свободно продохнуть работе, он считал, что год потерян до конца. А в жизни этих самых лет отпущено не столь уж много, вот в чем дело…
Было свежее ясное утро. День, как видно, предстоял покойно-знойный, нетомительно-ленивый… Над разогревающимся асфальтом уже начинал чуть заметно колебаться воздух. Где-то, гремя цепью, одиноко гавкал сиплый пес.
Невский пересек перрон, покрытый трещинами и проросшими в них кустиками чахлой травки, и, в числе немногих новоприбывших, через ворота с ржавыми затейливыми створками чинно выбрался на привокзальную площадь – полумощенно-полуасфальтированный пятачок, со всех сторон обрамленный одноэтажными складами, заплеванного вида магазинами и какими-то мелкими конторами. Зато на вокзальном фасаде пламенел размашистый плакат: «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». А у входа на местный главный рынок значился еще один: «Слава КПСС!» И не подумаешь, что где-то по стране уже вовсю гуляет «перестройка»…
Судя по невзрачным деревцам, которые робко выглядывали из-за крепких заборов и приземистых строений, можно было безошибочно определить, что и весь город таков, как эта вокзальная площадь, – достаточно пыльный, не слишком зеленый, разросшийся традиционно в ширь…