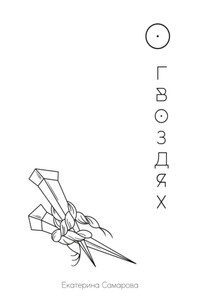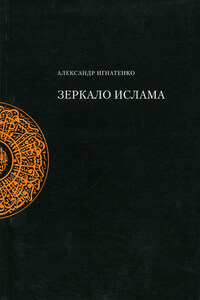Часто один день в жизни ребёнка – это целая жизнь, целая вечность. Почти как на войне.
Большую Куклу посадили дома в коридоре глубоко на шкаф. Её почти и не было видно. Аделаида туда никак не смогла залезть, чтоб её достать. На просьбы Аделаиды «спустить Большую Куклу» мама неизменно отвечала: «Да! Делать нечего! Она столько пыли и паутины на себя собрала, теперь только сорить в квартире! Обойдёшься! Вон сколько у тебя других кукол! И вообще – если у тебя есть лишнее время – вытри пыль, убери в квартире! Что ты за девочка, я прямо не знаю?!» Аделаиде было страшно грустно! Она хорошо помнила, что Большая Кукла никогда не оставляла её в беде. Она была с ней и после операции, когда ей вырывали гланды, и во дворе, когда тощая Мананка вцепилась Аделаиде в волосы, и они потом под улюлюканье всего двора дрались до первой крови, и там, в Большом Городе, около окон с выпуклыми решётками и толпой, одетой в чёрное… А теперь Аделаида её бросила. Мама говорила, что «она» давно «вышла из кукольного возраста» и должна «смотреть за ребёнком», то есть Сёмой, а «не дурака валять». Если залезть чуть выше в стенной шкаф на полку, Большую Куклу хорошо видно, и кажется, что она совсем живая. Просто сидит вся грязная на своей больной ноге и наблюдает сверху, что в доме происходит. А происходило многое!
Например, у Аделаиды не так давно выпали молочные зубы. Передние выросли вроде бы и не кривые, но со щёлкой посередине. Щёлка сначала была очень большая, а потом стала меньше. Внешний вид зубов не очень беспокоил родителей, но она стала шепелявить! Мама очень гордилась, когда Аделаида ходила в детский сад и на всяких праздниках «читала» стихи. Длинные такие, иногда даже совсем непонятные. А теперь вот она шепелявит. «Василий! У неё дефект речи!» – так говорила мама. Особенно это им страшно действовало на нервы и всякий раз, когда Аделаида, размахивая от переполнявших чувств руками, быстро-быстро что-то горячо рассказывала, мама и папа очень внимательно рассматривали её, словно каждый раз видели впервые, делали вид, что внимательно слушают, строго кивали, а потом, сделав удивлённые лица, говорили:
Ничего не поняли, потому что ничего не слышим! Ты же не разговариваешь, ты что-то мелешь. Руками не разговаривай! Говори медленно и чётко! Ну-ка, руки опусти вниз, вниз, вниз, вниз… не в карманы клади, просто вниз! Не клади руки в карманы! Они расширяются. О-о-о! И руками не шевели! Зачем руками разговариваешь?! Опусти, сказала, и говори всё снова! «Се-го-дня в шко-ле…» ну и так далее… Не «скола» надо говорить, а «шко-ла»… буква «ш», понимаешь?! Так, как ты говоришь, ничего не слышу! Как я сказала? Медленно и чётко!
Это было ужасно! Особенно, когда говорил папа:
– Нэ слишу! Ничэво нэ слишу! (Не слышу! Ничего не слышу!)
Повторять по второму, а иногда даже по третьему разу было смертельно тоскливо. И было очень обидно, потому что после каждого повторения пыла становилось всё меньше, а к третьему-четвёртому разу он вовсе пропадал. Рассказывать с вытянутыми по швам руками, как отдавая рапорт генералиссимусу, уже было противно. Терялся весь смысл речи, и было непонятно, зачем её вообще произносить, если тебе с самого начала сказали «нэ слишу», и действительно «нэ слишали»? Аделаиде уже после второго и третьего раза событие в школе вовсе не казалось таким интересным и значительным. Ну было и было чего-то там… Было и прошло… Чего суетиться-то? Мама и папа очень следили за проявлениями эмоций, требовали «рамок приличий», призывали в чувствах к «сдержанности», контролировали «красоту и чистоту» произносимых слов, а так же требовали старательного прижимания кончика языка к сомкнутым передним зубам обеих челюстей:
– Сь-сь-се! – ты так разговариваешь! – говорил папа. – Шэпелавиш! Сь-сь-сь! Сматри, как нада гаварит: Ссабака съела сэна! Павтари! Павтари: с-сабака с-съела с-сэна! – папе так нравилось чисто и красиво говорить! Так нравилось делать замечания! Так нравилось смотреть на себя со стороны и гордиться собой, как он так «красиво» разговаривает… Он так старательно прижимал кончик языка к передним зубам, что язык просачивался в дырочки между боковыми зубами.
А Сёмка наконец вырос и пошёл в школу. Вырос он как-то незаметно, всё же не особо обременяя Аделаиду уходом за ним. Мама считала, что на такую бестолковую дочь полагаться не стоит, поэтому смотрела за ним сама вместе с папой. Казалось, Семён живёт с родителями в своём параллельном мире. Потом родители смещаются по оси и попадают снова в мир Аделаиды. Их миры – Сёмкин и Аделаидин пересекались редко. Аделаида знала о младшем брате совсем немногое. Например, что он «плохо ест». Что именно это означает, Аделаида не задумывалась. Она ела хорошо. Или вот мама часто восхищалась Сёминым пением: «Как ребёнок хорошо поёт»! «Значит, наверное, поёт», – думала Аделаида. Говорили, что он – «очень красивый ребёнок!». Возможно. Это хорошо, что Сёма красивый… Ещё папа и мама радовались всему и восхищались всем, что Сёма делал. Они оберегали его от каждой мелочи, что могла ими считаться хотя бы просто неприятной. Но Сёма, тем не менее, иногда всё же врывался в мир Аделаиды. В её мире он портил всё подряд – ломал игрушки, рвал жатую бумагу, перемешивал краски, специально действовал на нервы, а потом, получив от неё, сам же и бежал жаловаться, размазывая сопли и слюни по лицу. Тут уже влетало Аделаиде:
– Не учи Сёму драться! – кричала мама, сама насовав Аделаиде килограмма два «мартышек». – Не учи! Для тебя же говорю! Тебя же жалею! Он вырастет – начнёт бить тебе морду и правильно сделает!
И тут же:
– Ты должна ему уступать! Он маленький!
Аделаида снова извинялась перед мамой, сама выбрасывала изорванные аппликации и клятвенно заверяла, что «больше ни-ког-да так не будет!». На этом, пожалуй, и все их родственные отношения с Сёмой заканчивались на целых несколько дней. Только было ну очень обидно – что бы ни произошло, мама и папа никогда не слушали оправданий и не хотели ни разбираться, ни сделать Сёмке замечание. Виновата всегда и во всём была Аделаида. Снова – «Ти винавата!». Но ведь так же не бывает?! Как плохо быть старше в «семье». «Старшая в семье», – так Аделаиду называла мама.
Сёму сразу записали в ту самую школу, где училась Аделаида, и ему не пришлось ходить в уличный туалет за «Венерическим диспансером». Сёмкин класс назывался «нулевой». Сёмка каждый день, проходя мимо детского сада, всё надеялся, что его несколько раз сводили в школу, чтоб застращать, дескать: будешь плохо себя вести – станешь ходить именно в школу, а сегодня мама с папой, может быть, раздобрятся и вернут тебя в большую светлую комнату с пианино и накрытыми к завтраку столами на четыре человека каждый. Но через некоторое время, как только начал получать в тетрадках оценки, Семён вполне реально осознал: всё кончено! Детского садика больше не будет никогда, и школа теперь надолго! Правда, потом ему в классе даже понравилось. Оказалось, что несколько одноклассников живут в соседнем дворе. Он завёл новые, интересные знакомства, и они скрашивали ему серые школьные будни. Родители на него особо не давили, хотя с первых же дней очень мягко объяснили, каким надо быть, чтоб в доме было тихо. Сёмка учился, особо не напрягаясь, но всеми силами демонстрировал матери свою старательность. У него появилась манера хмурить брови и не отвечать на вопросы. Дома Семён стал неразговорчив и угрюм, подолгу сидел за уроками, выводя что-то в тетрадке, и перестал участвовать даже в редких играх с Аделаидой. Мама радостно повторяла, что Сёма «очень повзрослел» и прятала в губах горделивую улыбку. Если б Аделаида не видела, как он продолжал носиться на переменках с новыми друзьями, визжать так, что прохожие оборачивались, она бы тоже поверила, что Семён «стал совсем другой». Но он, к счастью, на самом деле не был таким «другим». Он бегал по школе как быстроходный танк, сбивая на своём пути всё, что не успевало вовремя увернуться, бил стёкла и задирал девчонкам юбки.