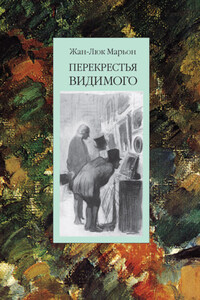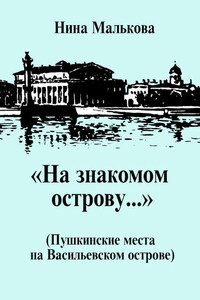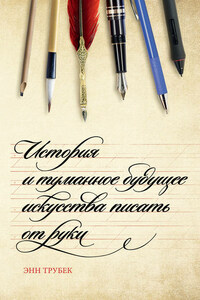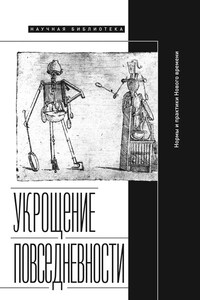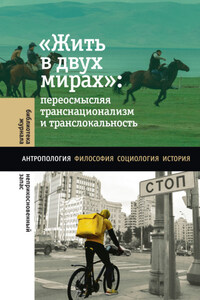В перспективе самой по себе осуществляется парадокс. Тем более что перспектива и парадокс определяются сходными признаками: и то и другое указывают на видимое, удаляясь от него, незаметно, но решительно. Парадокс удостоверяет видимое, но через противопоставление, или даже переворачивание; он буквально образует антивидимое, антивзгляд, противовнешность, которые предлагают зрелище, противоположное тому, что ожидалось увидеть на первый взгляд. Более чем некое удивительное мнение, парадокс часто обозначает чудо – он делает видимым то, что не следовало иметь возможность видеть, и то, что нельзя увидеть, не остолбенев. Так, согласно Септуагинте действия Бога по спасению сынов Израиля из Египта производят парадоксы, то есть чудеса: «Но самое чудное παραδόξότατον: то, что огонь сильнее оказывал действие в воде, все погашающей» (Книга Премудрости Соломона 16, 17). В этом смысле или скорее в другом смысле, который скоро станет прямо противоположным этому первому, лицо человека предлагает взору парадокс, по словам Р. Шара: «Как пчела покидает сад ради уже почерневшего фрукта, женщины выдержали и не предали парадокс этого лица, у которого не было залога»[1]. Парадокс лица, который совершается в этом «странном парадоксе во Христе (παράδοξον), Господе в виде раба, божественной славе (δόξα) внутри человеческого»[2]. Парадокс говорит здесь о том, что трудно было ожидать встретить в области визуального: огонь в воде, божественное в человеческом; парадокс образуется при вторжении невидимого в видимое. Отсюда неизбежное действие парадокса – в области мысли, но также в области восприятия: он ослепляет, он заставляет дух колебаться, он шокирует взгляд – сама чрезмерность его видимого плана хотя и не наполняет, но задевает их. Как чудеса вызывают сопротивление, которое не может оспорить их эффективность, так теоретические парадоксы вызывают больше полемики, чем производят очевидности. Вот и перспектива по-своему провоцирует появление парадокса. Или, точнее, она имитирует парадокс, разворачивая установленную ею связь между видимым и невидимым. И в том и в другом случае взгляд доходит до видения того, что не мог быть в состоянии увидеть, но no-разному парадокс предлагает антивидимое, тогда как перспектива наводит на мысль о прорыве взгляда. Парадокс утверждает видимое, которое оспаривает видимое, перспектива – взгляд, который проникает через видимое. Perspicuus в классической латыни означает также то, что кажется взгляду прозрачным, как, например, оболочка; фактически в перспективе, взгляд пронизывает то, что за неимением лучшего называется средой, средой, прозрачной настолько, что она не останавливает и не замедляет движение взгляда, в которую он проваливается, не встречая ни малейшего сопротивления, как в пустоту. В ситуации перспективы взгляд, который может ограничить только его собственная усталость, просверливает пустоту; он не просто проникает через эту пустоту – ведь он не нацелен ни на какой объект в пределах горизонта, – он бесконечно проникает сквозь пустоту, поскольку он проникает через нее ради ничто: в перспективе взгляд теряется в пустоте, именно он нацеливается на саму пустоту, окончательно преступая пределы любого объекта, он направляется на саму пустоту. Тем более он теряется только для того, чтобы беспрестанно себя находить.
Что это за пустота? Здесь не может идти речи о пустоте в физическом смысле, которая из-за полного отсутствия вещей, реальной недостачи вещей (res) не дает увидеть ничего и скорее вызывает головокружение. Физическая пустота: не на что смотреть, нет ни одного нового зрелища, напротив, только реальная пустота реальности, пустыня вещей, куда я могу войти, двигаться в ней, устроиться, возможно, упасть, и, когда она закончится, рассыпаться на кусочки у ее последней границы; эту пустыню вещей я могу видеть с трудом, через оппозицию к другим вещам, которые ее ограничивают или размечают, в определенном смысле делая ее пустотой видимой. Физическая пустота, определяясь как видимая пустота вещей, остается вещной, реальной, видимой. Напротив, пустота, которая открывается взгляду в перспективе, не предстает как пространство, реально обозримое, обживаемое, ограничиваемое, ничего не добавляет к видимости вещей, в том числе никакой видимой пустоты. Пустота перспективы ничего не добавляет к реально видимому, поскольку она выводит его на сцену. В действительности мой взгляд в перспективе невидимо проникает через видимое, а это последнее, не претерпевая никакого реального добавления, делается