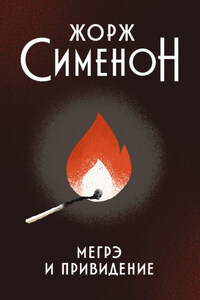Владимир Старшов - Перелётный словарь для почтовой вороны

| Название: | Перелётный словарь для почтовой вороны |
| Автор: | Владимир Старшов |
| Жанр: | Стихи и поэзия |
| Серии: | Нет данных |
| ISBN: | Нет данных |
| Год: | Не установлен |
О чем книга "Перелётный словарь для почтовой вороны"
Автор просит не думать о нём плохо, он не пьяница. Это всё лирический герой, такой-сякой, иногда и чокнешься с ним. Но ответственность за его грехи снять с автора никак невозможно. Стихи окликают поэзию исповедью. И не важно, файлы это или письма в папирусных свитках. Прав Пастернак, книга всего лишь «кубический кусок горячей, дымящейся совести.» Надо только подобрать слова. А словарей теперь, как будто, мало, и – не успеваем…
С этой книгой читают