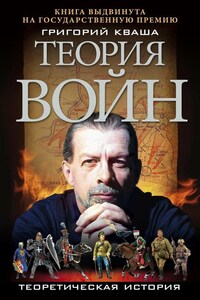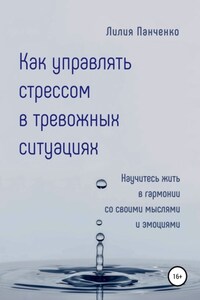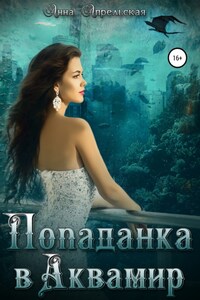Только что наступили первые майские дни.
Было воскресенье. Благодаря отличной погоде и, особенно, праздничному дню улица сельца Марьинского снова оживилась, как только прошел послеобеденный час. До сих пор, то есть между полуднем и четырьмя-пятью часами вечера, большинство марьинских жителей отдыхало; на улице слышались только возгласы мальчишек, игравших в бабки на недавно просохнувших, но гладко уже утоптанных лужайках; к этим крикам присоединялся теперь мало-помалу скрип ворот, которые пели на всевозможные лады; на завалинках показывались старики с заспанными глазами и всклоченными волосами, в которых виднелись соломенные стебли – знак, что народ перебрался уже на летние квартиры: в сараи и риги; к старикам выходили соседи. Группы вскоре увеличились присутствием старух с внучатами на руках и баб в пестрых праздничных передниках и писаных ярких головных платках. Старухи и бабы недолго, впрочем, останавливались у завалинок: они большею частью выходили на середину улицы и становились отдельными кучками, в которых тотчас же обнаруживался характер суеты и беспокойства; покажется ли баба в отдалении, ее уже никак не пропустят мимо: «Тетка Авдотья, а тетка Авдотья… куда ты… ась? подь к нам, касатка! а?..» Минуту спустя голос тетки Авдотьи дребезжит заодно с голосами ее товарок. На улице, освещенной лучами вешнего солнца, заметно уже склонившегося к западу, чаще стали появляться молодые девки, сопровождаемые неизменными их спутницами, маленькими девчонками; посмеиваясь в ладони и шушукая при встрече с парнями, девки направлялись к хлебному магазину, расположенному на одной линии с избами и отделявшемуся от последних ветлами. Там, под навесом, бросавшим желтоватую тень, которая делалась все сквознее и золотистее по мере того, как солнце опускалось к горизонту, собралась уже порядочная ватага молодежи; кто стоял, перешептываясь с соседкой, кто сидел, закрыв ладонью нижнюю часть лица и украдкой поглядывая на парней. Парни в свою очередь переминались с ноги на ногу и также молчали. Казалось, вся молодежь Марьинского собралась уже под навесом, но никто еще не подавал голоса; до сих пор по разговорной части отличалась одна лишь молоденькая бабенка с вздернутым, раздвоенным на конце носом и быстрыми карими глазами.
– Что ж вы, девки? а?.. Ну, что сидите руки-то скламши? а? полно вам, взаправду! – надсаживалась она, перебегая от одной группы к другой. – Становись в хоровод, хватайся за руки – ну!.. и-и-эх!
На горе-то мак, мак, Под горою так, так!..
– Что ж вы, красные? становитесь! «За-а-инька, беленький!» – подхватывала она, снова принимаясь петь, причем всякий раз зажмуривала глаза и выставляла напоказ ряд мелких белых зубов. – Что ж вы не подтягиваете? а? да ну же, ну! Полно вам спесивиться-то!
Но старания ее не подвигали дела; слышно было покуда, как щелкали орехи, как шушукали и втихомолку посмеивались; вообще под навесом царствовала та нерешительность, выражающаяся подталкиваньем локтем и вопросительными взглядами, которая предшествует девичьему веселью. Улица между тем все более и более оживлялась, говор усиливался; кой-где слышался хохот, кой-где раздавались нетерпеливые спорные возгласы; кой-где, и преимущественно из бабьих кружков, раздавалось дребезжанье, весьма похожее на звук битой посуды, которую положили бы в кастрюлю и начали бы трясти изо всей мочи; в одном из таких кружков сильное размахиванье руками и слишком уже часто повторяемые имена Домны и Дарьи служили несомненным доказательством, что там успели уже повздорить.
Наконец в дальнем углу амбарного навеса робко, вполголоса, затянули песню; повидимому, этого только и ждали: к голосам этим тотчас же присоединились другие. Подстрекаемые востроглазой запевалкой, парни и девки выступали из-под навеса, схватывались за руки и становились в круг; хоровод устанавливался. Еще минута, и, нет сомнения, звонкая песня заглушила бы уличный говор… но надо же было случиться, чтоб в эту самую минуту в околицу Марьинского въехал воз с красным товаром.
Въезд сопровождался таким неистовым, единодушным лаем собак, что все стоявшие спиною к околице невольно обернулись. Хозяин воза, или варяг – так называют в наших деревнях этих торгашей, – не успел подобрать ног от собак, которые, как ядра, летели к нему навстречу, как уж вся деревня заметила его появленье. Началось с того, что бабы, хлопотавшие более других о примирении Домны и Дарьи, немедленно направились к возу. Достойно замечания, что Домна и Дарья, предоставленные на собственный произвол, тотчас же успокоились; в голове Дарьи мгновенно возникла мысль о ситцевом переднике, который посулил купить муж, как только приедет торгаш; Домне пришла вдруг крайняя надобность прикупить тесемки; одна побежала отыскивать мужа; другая, поправляя головной платок, устремилась к торгашу. Примеру ее последовали многие девки и парни. Из хоровода то и дело убывало, к великому неудовольствию. запевалки, которая давно уж била в ладоши и щелкала пальцами над головою; впрочем, она вскоре утешилась и побежала, куда бежали другие.
Спустя самое короткое время воз так облепили, и такая густая толпа окружила его, что старикам, сидевшим на завалинках, стали только видны шапка торгаша и верхний конец дуги над ушами его клячи. Все разом говорило, тискалось и осыпало расспросами торгаша, который решительно не знал, куда повернуть голову.
«Кумач есть?..» – «Покажи тесемку…» – «Почем иголки?..» – «Эй, слышь, на яйца меняешь?..» – «Девушки, касатушки, глянь-кась, серьги-то, серьги!..» – «Ой, батюшки, задавили!..» – «Куда лезешь?.. чего не видали?» – «А тебе небось одной глядеть-то хоцца!.. ишь ее прет… Ну! ну!..» – «Ты, слышь, брат, отколева?..» – спрашивали невпопад с другой стороны.
Покупали, однако ж, очень мало; до сих пор торгаш отмерил только два аршина тесемки, сбыл моток ниток да муравленую глиняную дудку – и те, впрочем, променены были на яйца. Тем не менее все продолжали тискаться, спрашивали о цене каждой вещи, лезли друг на дружку, не щадя боков. Некоторые бабы, побойчее, взмостились даже на облучок воза. Хозяина окончательно затормошили. Бабы, сидевшие на облучке, видя, что толку не доберешься, принялись сами распоряжаться: кто примерял наперсток, кто щелкал ножницами, кто накидывал на голову платок, кто прикладывал кусок ситца к переднику. Но и тут-таки более других показала себя востроглазая бабенка, так много хлопотавшая под амбарным навесом: повязавшись желтым платком, перекинув через голову полновесное ожерелье из цветных бус, она подпрыгивала на облучке и, показывая присутствующим раскрасневшееся смеющееся лицо, поминутно вскрикивала: «И-их-на!»