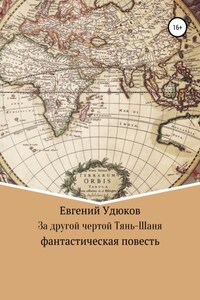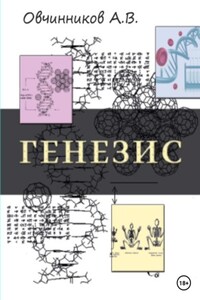Деконструкция симулякра
пермский этос
Что? перестать или пустить на Пе?..
Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе.
Птушкин
Того, чьей волей роковой
Сей мрачный символ основался
Его же
Две поэмы объединены сюжетообразующим символом –
Парашей
Сложеницын о Птушкине
I
Там, где заканчивается Сибирь и еще не начинается Европа, между Понтом и Соловками, находится город Пермь. Этот город ничего не говорит моему сердцу и разуму, и в его огнях мне видится то безвременное бытие, то безбытийное время. И люди – эти по-иркутски приветливые и по-вятски расчетливые люди – кажутся мне ничем не выдающимися. Разве что каждый из них отсчитывает свою историю от Татищева и видит ее культурный пик в фигурах Гельмана и Иванова.
Если когда-нибудь вам доводилось общаться с пермскими жителями, вы, наверное, хорошо понимаете, как в их локальном сознании соединяется комплекс провинциала и имперские амбиции. Практически любой пермский житель – стоит остановить его и узнать дорогу – начнет спрашивать, читали ли вы «Географа» Иванова. Однако, стоит вам перевести разговор на «Сердце Пармы» или «Пермский текст» Абашева, так неудачно ставший придатком филантропической деятельности Иванова, встретившийся пермяк, указав дорогу, тихо поругиваясь отправляется с горячим сердцем в близлежащую пельменную, – заедать вседневную тоску и горечь.
И, тем не менее, время от времени всем нужно ездить в Пермь.
Мы подъезжаем к Перми ранним утром, когда гордые Рифейские горы прячутся в плотных облаках и леса разбегаются в разные стороны, скрадываясь в пещерах и ущельях и слагаясь в новые неразгаданные тайны убегающего прочь от города палеолита. Кругом, очевидно, мертвый сон, и апатичная суета немногих сходящих с поезда пассажиров не нарушает разлитого по миру безмолвия.
Когда поезд останавливается, вы выходите на перрон и по деревянным лестницам, созданным еще до Великого потопа, спускаетесь в лабиринт. Миновав несложные сочленения коридоров, вы оказываетесь на свежем воздухе.
С первого шага – Пермь осознает свою вторичность. Стоит Вам поднять голову, – вы увидите венчающую уродливое серое здание надпись: «Пермь-2». Точно всё, что перед вами: и сам город, и люди – это только копия навсегда потерянного оригинала, убранного, возможно, из-за нехватки места на земном шаре.
Спускаясь по ступеням вокзала, вы видите нагроможденные киоски, гомонящие толпы цыган и абреков, спешащих со своими маленькими замшевыми саквояжами евреев. Большинство из встречаемых прохожих несет на себе печать какой-то усталости и еле сдерживаемой скорби. Точно апокалипсис здесь – в отдельно взятом городе – уже случился, и в назидание о минувшем рассвирепевший архангел метнул свой пылающий меч, и он, опалив головы местных жителей, вонзился в землю, обратившись в уродливую железобетонную стелу эпохи советского неолита.
Затянутая, точно в погребальный саван, в черную свиту облаков герценовско-горьковская Пермь приемлет всех идущих в свои холодные, костяные объятия. Ежась и содрогаясь от ледяного дыхания скрытых под землей легких, как адская кузница, вырабатывающих свежий воздух и обращающих его в сероводород, вы вступаете в Безымянный сад. Это место – вопиюще неживописное среди монолитно-серых форм – местные жители обходят с опаской. Временами вы встречаете беззаботно усевшихся на траву людей, но приглядевшись, наверное, видите, что они давно лишены первичных половых признаков и головы – словом, и не люди.
Мимо черных сфер, скорее – мимо! Это черные сферы инобытия, запечатлевшие в своих покрышечных следах пермский этос минувшего. Пропитанный животным мускусом этос, некогда бывший текстом, растекается по безымянному саду, и, переходя сложный путь оптически-обманных отражений, образует великий грандиозный символ – букву «Пе».
Пе… Великий грандиозный символ. План выражения без плана содержания. Два земных перпендикуляра, на которых держится земная параллель. Эта мнимая, евклидовская ортогональность мира захватывает город и низводит его до звука, до отголоска, до бессмыслицы.
Чем дальше вы смотрите на Пе, тем большую оформленность обретают ее хаотически-буквенные очертания. Вместо тысячи собранных вместе брёвен вам кажется груда мертвых тел… Тысячи, сотни тысяч погибших, оскопленных и безголовых людей. По их теням солнце отсчитывает свой несложный ход, окропляя лучевым варевом сочащиеся деревянные силуэты в предрассветные и послезакатные часы.
А чуть дальше, там, где отменено пространство и время, на пересечении бытия и небытия стоит полицейский эскорт, который денно и нощно наблюдает за целостностью вверенного городу символа. Немало героических страниц в истории молодой Перми связано с художественно замысленными террористическими атаками, немало современных героико-эпических баллад написано о молодых деконструкторах, отдавших свое время, здоровье, счастье, самое себя, для победы над буквой «Пе». И, кажется, – неправда ли, кажется, – что история этих подвигов написана огненными буквами на сером асфальте города, и, что, слагаясь в единый текст, они образуют подлинную жизненную онтологию, возвращая времени его направленность и линейность.
II
Это случилось осенью, в последние ноябрьские дни. Серый снежок уютно поскрипывал под ногами, пушистые метели ластились к пёстрым бульварным стенам. В это время из разных точек города друг другу навстречу двинулось четверо молодых людей. Мало чем они отличались от обычных прохожих, только в глазах – в отличие от тусклых зрачков массы – светился огонь борьбы и несгибаемая, стальная воля.
Шедший с востока Ваня Лебедь не шёл, а плыл. Своим внешним видом он походил на английского денди: только пропал куда-то изящный лаковый цилиндр. Искаженная и перевёрнутая в его лаковых ботинках улица напоминала собою змею, покорно ползущую вслед за своим предводителем. Ваня шёл спокойно, часто останавливался и читал объявления; порою он доставал маникюрные ножнички и препарировал некоторые фразы, тщательно пряча их в лабиринтах своего кармана.
Женя Щука, рыжий и невыспавшийся, шёл по проспекту со стороны юга, нервно и внимательно обводя глазами прохожих. Он никому не улыбался, и лицо его, обычно спокойное и красивое, было искажено гримасой ненависти и злобы. Изредка его жилистые руки сжимались в кулаки, и любой зазевавшийся прохожий, турист, или приезжий на заработки мог получить по шее: Женя обычно не церемонился.
Кристина Рак, вчерашняя семинаристка, шла, как и все семинаристки, в коричневом кашемировом пальто: на плечи был наброшен изрядно вылинявший темно-зеленый драдедамовый платок. Под мышкой Кристина, как удалось установить позднее, держала связку книг: «Трудное время» В.А. Слепцова, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и вовсе не относящихся к делу «Подлиповцев» Ф.М. Решетникова. Застыв в 60-х годах предшествующего века, Кристина не спешила выйти из своего замкнутого сомнамбулического круга. В то же время шла она с Запада – но запад, думается, был бы сильно озадачен, узнав о таком векторе и направлении ее мыслей.