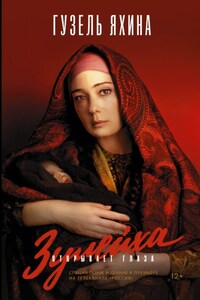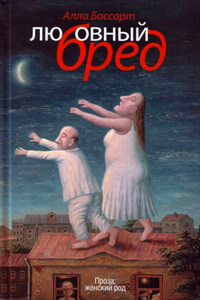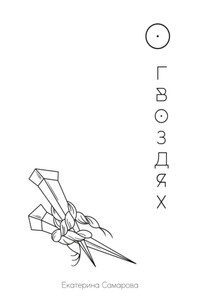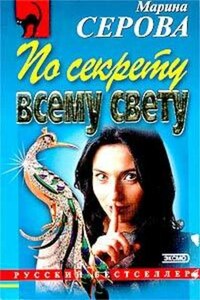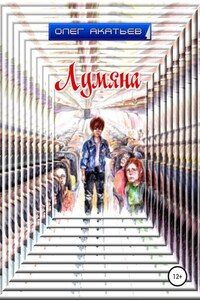Лодку сносило течением, но Гера, размечтавшись, то и дело бросал весла и глядел в черное небо, радостно изумляясь несметности звезд и затейливым конфигурациям созвездий. Сверкающая чешуя космоса отражалась в черной реке и странным образом умещалась в каких-нибудь ста метрах ее ширины, растекаясь, правда, по всей длине. А длина реки соединяла маленький родник на северо-западе страны и большое море на юго-востоке, а именно Каспийское, то есть пересекала всю эту страну, не по уму огромную, хотя и не бесконечную, как вселенная. Волга – так называется река, а что означает это имя, никто понятия не имеет. То есть, может быть, какие-нибудь ученые люди знают, но остальные вряд ли задумываются. Гера же вдруг задумался. Он часто задумывался о странных вещах, особенно возвращаясь от Лизы. Например, его мысли нередко обращались к концепции бесконечности. «Бесконечная вселенная, – думал Гера, и лицо его напрягалось от усилий воображения. – Бесконечная… Это как же, пики козыри, – бесконечная? Всё – космос. Но есть же какое-то, пусть несусветное, пусть миллиард в миллиардной степени количество галактик, образующих космос, значит, есть у него и мера?» И Гера, один на реке, лишь два бакена видны на излучине, слева и справа, два белых колпака с красными огоньками, – встал Гера Бредень в лодке в полный рост, раскинул руки и заорал на всю вселенную: «Бесконееченаааяааа! Лизааа! Ты моя бесконечнаяааа!!!»
А Лиза на своем берегу сидела на крыльце и молча смотрела в темноту, где растаял дроля. Она была глуховата, хотя остра глазами, и долго видела Герку, уплывающего в космос реки. Но слышать – не слыхала.
Комары тем временем разлютовались. Лиза, кряхтя, поднялась и ушла в избу. Спать не хотелось, Лизавета с трудом поднялась на чердак, где Герман оборудовал ей мастерскую, провел свет, набил верстаки и до потолка навалил холстов, лично натянутых им на подрамники. Раньше, в «догерманскую», как они шутили меж собой, эпоху, Лиза работала на досках – по ветхозаветным правилам. Шкурила, пропитывала льняным маслом и писала, за неимением всякой там киновари и лазури, разводя дешевую строительную «краску масляную» олифой. После крыла лаком. Начала это дело уже закоренелой старухой, на седьмом десятке. Ноги распухли от вен, сделались синие, в шишках, болели – с фермы пришлось уйти. От нечего делать раскрасила ставни. Зашла в гости попадья, изумилась на красоту ярких подсолнухов и хвостатых петухов, привела батюшку. Отец Димитрий щелкнул языком: где ж ты, Лизавета, такого белого с рогами видела? Ведь это олень? «Олень? – усомнилась Лиза. – Видать, олень. А то я думала – конь. Во сне приснился». «Ты бы, вот что, душенька… ты б мне ликов написала – живем, сама видишь, как нехристи в лесу: ни Пантелеймона-целителя, ни Бориса и Глеба. Даже нашего углического отрока-мученика, ангела моего – и то нету. Срам, а не храм!»
С убиенного царевича и пошла слава Лизаветы Морозовой: от деревни Буяны на левый берег, где жил самородок Гераня, оттуда обратно через речку, по косой – в Углич, и так зигзагом, молнией – до самого Ярославля, откуда ходит электричка аж в Москву.
На левом берегу никакой деревни, собственно говоря, не было. Отравлял когда-то воду и вселенную на сорок верст вокруг рыбзавод, лет уж десять, слава богу, как заглохший и накрепко задушенный крапивой, да лопухом, да гигантскими первобытными зонтами ядовитого борщевика, да всемогущей пырей-травой. Остались название на местной карте – «пос. „Рыбзавод“, частная коптильня богатого Ракова (кстати, разводил и раков на продажу) и несколько домов, еще не окончательно брошенных хозяевами. В одном из них, схоронив родителей, проживал в полном одиночестве самородок Гераня по фамилии Бредень: во-первых, оно понятнее, чем Брейдель, а с другой стороны, идеально соответствует размещению Геркиных мозгов несколько набекрень.
Как отец помер, Гера дал мамке слово: после армии – прямиком в Москву учиться на ветеринара. Но в армию не взяли по причине легкого привета на чердаке. Некоторый незначительный сквознячок: застывал Бредень временами, уставясь в одну точку, и ничего про это потом не помнил. Что ли какая-то «лепсия»… В общем, не дождалась мать. Но и после, вплоть почти до сорокалетия не оставлял Герман идеи о Москве, до которой всей езды часов шесть, включая катер на Углич. Между прочим, можно и всю дорогу водой, но это дорого, а Бредень жил истинно по-русски – в отличие от другого, правильного немца Ракова.
И жизнь эта была до того скучная, что кабы не водка – впору удавиться. Когда совсем жрать не было, нанимался к Ракову. Малость подзаколотит – и домой, ханку трескать да возюкать углем по стенам, что на ум придет: крылатых людей, допустим, с рыбьими рылами, ручную ворону Герту, кота Фюрера, а также картинки из головы или из книжек, которые еще от деда остались, немецкие, за что Ивана Карловича и шлепнули, как полагается, в 1942 году. Киндеру Герке, решительно порвавшему с фашизмом, всю печатную немчуру отец синхронно переводил вслух. А уж после сирота натащил русского чтива – отовсюду, где бывал. Но где он бывал-то, недотыкомка, дальше Ярославля? О, до Нижнего раз прошел на моторке! Там, на пристани, у него мотор с лодки и сковырнули, покуда по городу шлялся да скупал по дешевке у стариков и старух всякую книжную дребедень. Пер обратно на веслах до глубокой ночи, едва пупок не порвал.
– Позоришь ты, Герман, фамилию, – выговаривал ему Раков. Живешь, как русский бродяга. А ведь папаша такой дом сладил, да и у тебя, подлец ты, руки золотые! А крыша, полюбуйся-ка, течет, крыльцо село. Рамы не закрываются! Стыдно, Герман. Гляди, как у меня, – Раков плавным жестом обводил свои угодья, кирпичную хоромину в три этажа, цветники, садок, коптильню. – Кто мешает, Бредень: отстроился, женился, ни от кого не зависишь… Я б ссуду дал, процент возьму в память дружбы с папашей твоим чисто символический…
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru