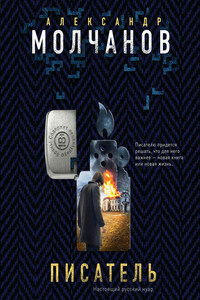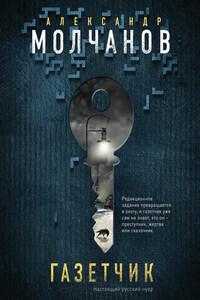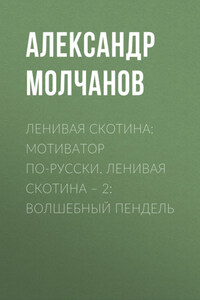1997 год
Черемуха в Волоковце зацвела в конце мая, и, как всегда в этих широтах, резко похолодало. На улицах опять появились люди в пальто и даже зимних пуховиках. Несчастные, которые оделись слишком легко, поверив календарю, а не градуснику, ежились в своих пиджачках и курточках и перемещались по городу короткими перебежками от магазина к магазину. Разумеется, в магазинах такие посетители ничего не покупали и тянулись не к витринам, а к батареям.
В магазине «Фрукты» на улице Пирогова в эти дни было особенно многолюдно. Собирались здесь в основном молодые люди. Продавщица к ним давно привыкла и не выгоняла на улицу, тем более что «эти» как раз время от времени все-таки что-нибудь покупали. В основном сигареты, пиво и легкую закуску. Кажется, никто из них никогда не брал фрукты.
«Эти» быстро сходились, легко находили общие темы для разговора и никогда не держались дольше трех-четырех дней. Появлялись, мгновенно вливались в коллектив, а потом исчезали навсегда.
Они все были разные – молодые бородачи, крепкие ребята в спортивных костюмах, металлисты в косухах, студенты, хиппи, работяги, золотая молодежь. Разговоры у них всегда были одинаковые – про детское питание, кроватки, памперсы и пеленки.
Каждый день ровно в девятнадцать ноль-ноль они выходили из магазина, выстраивались вдоль желтого двухэтажного дома напротив и начинали кричать:
– Галя!
– Лена!
– Вера!
– Алена!
После чего окна на втором этаже открывались, из них выглядывали измученные и счастливые Гали, Лены, Веры и Алены и начинали говорить цифрами:
– Семь и восемь с половиной по Апгару.
– Пятьдесят два сантиметра.
– Три девятьсот.
Ровно в восемь все окна закрывались, и молодые люди с чувством выполненного долга шли по домам – доживать свои последние тихие, спокойные и свободные дни.
А в желтом двухэтажном здании Волоковецкого роддома № 2 дежурные нянечки на каталке развозили малышей по палатам на кормление. Потом было свободное время, когда молодые мамы могли посмотреть телевизор, почитать, поболтать или поспать. Следующее кормление было в полночь, после чего можно было поспать до четырех утра.
Мамочки должны были привыкать к рваному ритму жизни с бесконечными ночными побудками.
Кажется, этот жесткий режим был установлен не для их детей, а для них самих – для того, чтобы лишить их собственной воли.
– Вы теперь не люди, а шкафчики с едой для ваших детей, – любила говорить нянечка Аида, которая проработала в роддоме № 2 больше тридцати лет.
Шкафчики, черт возьми. Кажется, это доставляло ей огромное удовольствие – называть их так.
За эти тридцать лет она повидала всякого и всегда с первого взгляда на роженицу понимала, с кем будут проблемы, а с кем нет.
Нина Шарова ей сразу не понравилась.
«Больно прыткая», – подумала она, хотя Нину провезли мимо нее на каталке. Ее огромный живот был накрыт простыней, и правая рука бессильно свисала вниз и болталась при каждом движении каталки.
Что-то в ней такое было. Может быть, невидящий взгляд из-под полуприкрытых век. Или упрямо поджатые губы.
Ее должны были поместить в палату рядом с холлом, но Аида, не особо отдавая себе отчет в том, что делает, как бы случайно передвинула карточки на стойке, и Нину отправили в угловую палату, самую дальнюю.
Подальше спрячешь – поближе возьмешь.
Нина родила здоровую девочку на следующий день после поступления в роддом. Родила быстро, за два часа. Стремительные роды.
«Как по учебнику», – сказал врач.
Сразу после родов Нина впала в полную прострацию. Отказалась взять ребенка на руки и даже посмотреть на него. А когда анестезия отошла и девочку принесли ей на кормление, отвернулась к стене и сказала:
– Уберите. Не хочу ее видеть.
Все понятно. Недаром никто к ней не приходил ни до, ни после родов. Никто не ждал в магазине «Фрукты», чтобы ровно в девятнадцать ноль-ноль закричать: «Нина!»
Аида такое видела сто раз. Мужик сделал девчонке ребенка и сбежал.
Или жертва изнасилования. Всякое бывало.
Ребенок-то не виноват.
– Отказываться будешь? – спросила Аида.
Нина не ответила.
– Подумай еще. Всю жизнь жалеть потом будешь.
Аида сделала пометку в журнале, доложила о происшедшем врачу, а новорожденную девочку покормила разведенной смесью.
Вечером пришел мужчина. Пожилой, солидный, в дорогом костюме, в пальто. Глазастый, посмотрел на нянечку один раз – как сфотографировал. Даже не так – просветил рентгеном насквозь.
Долго говорил с врачом, закрывшись в кабинете. Потом врач несколько раз носил какие-то бумаги в регистратуру и обратно. А мужчина так и сидел у него в кабинете. Аида не заметила, как он ушел. Но в палату к Нине он не заходил, это точно, она бы увидела. Уже уходя, врач ей сказал, что завтра девочку, которую родила Нина Шарова, заберут. А Нину переведут в стационар. Освободят койку для другой мамочки.
Аида не удержалась и рассказала об этом Нине. Ей было любопытно, что это был за мужчина. Неужто тот самый, который поматросил и бросил?
Нина совершенно не удивилась.
– Это мой отец, – сказала она и отвернулась к стене.
День прошел своим чередом и закончился вовремя. В половине второго ночи, закончив с кормежкой и перемыв бутылочки, Аида прилегла на кушетку – подремать часок до следующего кормления.
Она не слышала, как Нина вышла из своей палаты. В руке у Нины была подушка. Нина на цыпочках прошла мимо спящей нянечки, взяла ключ со стойки. Щелкнул замок, дверь отворилась.
Нина вошла в залитую синим светом палату, где лежали малыши.
Она медленно прошла мимо ряда металлических кроваток, читая бирки с фамилиями. Остановилась напротив кроватки, на которой спала ее дочь. Подняла подушку. Зажмурила глаза. Накрыла подушкой лицо девочки.
И надавила изо всех сил.
Раньше Андрею казалось, что написать книгу – это сложное и долгое предприятие, право на которое еще нужно заслужить. Но поездка в Шиченгу и встреча с сельским учителем Кораблевым, который, сидя в деревне, ухитрился написать отличный роман, подстегнула его.
О чем писать – тоже, в принципе, было понятно. Любое воспоминание о Лупоглазом отзывалось головной болью. Сейчас Андрей чувствовал эту боль не как препятствие, а как магнит, ему хотелось продлить эту боль, она была обещанием чего-то настоящего. Андрей почти не удивился, когда однажды утром обнаружил, что сидит за столом на кухне и пишет шариковой ручкой в большой тетради в клеточку.
Он писал по утрам, перед работой. Очень скоро нащупал свою норму – пять страниц в день. Писал без выходных, потому что боялся остановиться, боялся, что после перерыва не сможет начать работать снова.
Даже когда простудился и несколько дней лежал дома с температурой, он находил в себе силы на то, чтобы сесть за стол и написать свои пять страниц. Ровно на полтора часа туман в его голове прояснялся. Но после того как пять страниц были написаны, силы покидали Андрея, и он едва успевал доползти до дивана и проваливался в забытье.