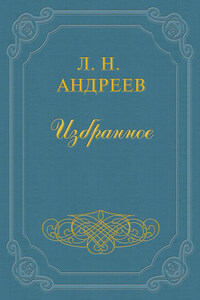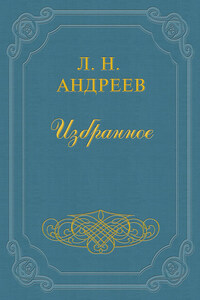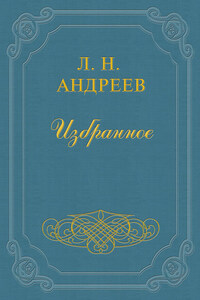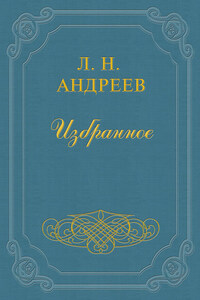Едва ли какое-нибудь другое изобретение было встречено с большим недоверием и даже пренебрежением, нежели кинематограф – живая фотография. Если вся мировая улица и низы интеллигенции с восторгом и упоением отдались власти «кинемо», то на верхах к нему отнеслись холодно и враждебно. Уже невозможно стало не замечать тех бесчисленных вечерних огоньков, которыми снаружи украшает себя кинемо, не видеть пестрой толпы, волной приливающей к его дверям, – а о нем все молчали, притворялись, что не замечают, или искренно думали, что это – одна из тех пустых забав, вроде скетинг-ринка, какими время от времени увлекается переменчивая и пустая улица. Одна-две нерешительных статьи в толстых журналах, превосходная, но мало оцененная и замеченная статья г. Чуковского, смутные слухи о каких-то протестах в Германии против растущего захвата кинемо, – это почти все, чем до сих пор было у нас ознаменовано вступление в жизнь чудесного гостя. Когда года два или три назад я впервые заговорил с некоторыми из писателей о громадном и еще неосознанном значении кинематографа, о той выдающейся роли, какую суждено ему сыграть при разрешении проблемы театра, я мог вызвать только усмешку и упреки в излишнем фантазерстве.
И всего удивительнее было то, что театр, который всем существом своим заинтересован в кинемо, связан с ним узами кровного родства, – как будто вовсе не замечал своего богатого и вульгарного американского дядюшку. Не замечал даже и в ту трагическую для себя минуту, когда под напором кинемо сам пошел на улицу, занял место рядом с вечерними зелено-красными огоньками под именем «театра миниатюр».
Кажется, это отношение несколько изменилось, о кинематографе уже пробуют говорить серьезно. Но вот на днях мне привелось случайно услышать целый ряд писателей и артистов, говоривших о кинемо-театре, и я убедился, что по существу своему кинемо продолжает оставаться все тем же странным незнакомцем, развязным и в достаточной степени противным для эстетически и умственно воспитанных людей. Художественный апаш, эстетический хулиган, холостой и грабительский привод на колесо истинного искусства, – вот как определялось отношение большинства говоривших к чудесному гостю. Ставились и такие вопросы: прилично ли уважающему себя актеру выступать в кинемо? Слышались и такие патетические возгласы: как ни воспевайте ваш кинемо, он никогда не убьет театра, как цветной фотографии никогда не убить живописи!..
И никто даже из говоривших в защиту кинемо-театра не указал на то весьма возможное обстоятельство, что именно ему, кинематографу, ныне эстетическому апашу и хулигану, суждено освободить театр от великого груза ненужностей, привходящего и чуждого, под тяжестью которого сгибается и гибнет современная сцена, хиреют драматурги, вырождается и слабеет некогда мощное и царственное слово высоких трибун.
Нужно ли театру действие в его узаконенной форме поступков и движения по сцене, – форме, не только принятой всеми театрами, но и исповедуемой как единственно необходимая и спасительная?
На этот еретический вопрос я позволю себе ответить: нет. В таком действии нет необходимости постольку, поскольку сама жизнь, в ее наиболее драматических и трагических коллизиях, все дальше отходит от внешнего действа, все больше уходит в глубину души, в тишину и внешнюю неподвижность интеллектуальных переживаний.
Как-то, перечитывая мемуары Бенвенуто Челлини, я поразился огромным количеством событий в этой жизни средневекового художника-авантюриста: сколько бегств, убийств, неожиданностей, потерь и находок, любвей и дружб. Поистине средний наш современник за всю жизнь не отметит столько событий, сколько встречал их Челлини за короткую дорогу от дома до заставы! Но таков был не один Челлини, а и все тогдашние, а и вся тогдашняя жизнь с ее разбойниками, герцогами, монахами, шпагами, мандолинами. И только тот был в ту пору интересен и богат переживаниями, кто двигался и поступал, а сидевший на месте был лишен переживаний самой жизни, – сидевший на месте был подобен камню при дороге, о котором нечего сказать. Естественно, что и сцена, даже при изображении гения бездействия Гамлета, должна была наполняться герцогами, шпатами, убийствами, поступками хотя бы около, хотя бы вокруг – иначе ведь нет живого человека!
Но перешагните несколько столетий, и вот перед вами жизнь… ну хотя бы Ницше, самого трагического героя современности. Где в его жизни события, и движение, и поступки? Их нет. В пору молодости, когда Ницше еще двигался и что-то делал в форме прусского солдата, он был наименее драматичен: драма начинается как раз с того момента, когда в жизни воцаряются бездействие и тишина кабинета. Тут и мучительная переоценка всех ценностей, и трагическая борьба, и разрыв с Вагнером, и обольстительный Заратустра. А что же сцена?
А сцена бессильна и нема. Покорная непреложному закону действия, она отказывается и не может дать столь нам близкого, и важного, и необходимого Ницше, но зато предлагает в огромном количестве уже ненужного, пережитого, пустого Челлини с его бутафорскими шпагами. Жизнь ушла внутрь, а сцена осталась за порогом. Поймите это, – и вы поймете, почему за последние десятки лет ни одна драма не достигла высоты современного романа и не сравнялась с ним; почему Достоевский не написал ни одной драмы; почему Толстой, столь глубокий в романе, в драме своей примитивен; почему хитрец Метерлинк мысли свои одел в штаны, а сомнения заставил бегать по сцене. Проследите до конца мою мысль, и вы поймете, почему так очаровательно-сценичен (и так уже не нужен) Островский, имевший опору в быте, и почему так нужен и так «несценичен» Чехов. Держались еще за быт и этнографию, но вот негр надел цилиндр и манишку, Брусков поехал в Кембриджский университет, – конец быту и этнографии!
Я не говорю, что события прекратились – никто не действует, – история прекратила свое течение. Нет: дневник происшествий еще достаточно полон, достаточно еще убийств и самоубийств, сложных обманов, искусных действенных комбинаций, живой и действенной борьбы с оружием в руках, но… драматическая ценность всего этого понизилась. Жизнь стала психологичнее, если можно так выразиться, в ряд с первичными страстями и «вечными» героями драмы: любовью и голодом – встал новый герой: интеллект. Не голод, не любовь, не честолюбие: мысль, – человеческая мысль, в ее страданиях, радостях и борьбе, – вот кто истинный герой современной жизни, а стало быть, вот кому и первенство в драме. Даже плохие драматурги, плохая публика современности начали понимать, что внешнее оказательство борьбы, сколько бы ни проливать крови на сцене, есть наименее в борьбе драматическое. Не тот момент драматичен, когда рабочий идет на улицу, а тот, когда его слуха впервые касаются глаголы новой жизни, когда его еще робкая, бессильная и инертная мысль вдруг вздымается на дыбы, как разъяренный конь, единым скачком уносит всадника в светозарную страну чудес. Не тот момент драматичен, когда по требованию фабриканта уже прибыли солдаты и готовят ружья, а тот, когда в тиши ночных бессонных размышлений фабрикант борется с двумя правдами и ни одной из них не может принять ни совестью, ни издерганным умом своим. То же и в современной любви – даже в ней, и во всяком глубоком проявлении жизни – от внешнего выражения в поступках действие ушло в глубину и кажущуюся неподвижность переживаний.