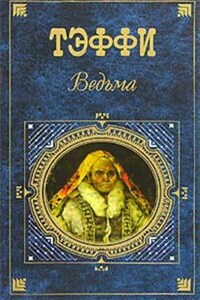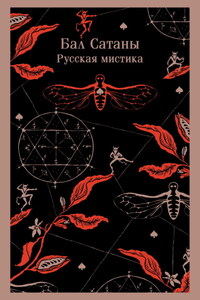Предисловие к очерку «Плен»
После отхода Русской Армии из северной Таврии, 3-й сводный кавалерийский полк, куда входили, в виде отдельных эскадронов, белгородские уланы, ахтырские уланы и стародубские драгуны, был назначен в резерв. По дороге в тыл, несколько человек солдат 3-го полка, в том числе и я – от уланского эскадрона – были посланы за фуражом на станцию Таганаш.
Когда отряд, под начальством и с людьми ротмистра Прежславского, возвращался к месту стоянки полка, я почувствовал себя настолько плохо, что вынужден был, с разрешения г. ротмистра, остаться по дороге в одной из немецких колоний, название которой уже улетучилось из моей памяти. Предполагаемая простуда оказалась возвратным тифом. Я попал в джанкойский железнодорожный (2-ой) лазарет.
После одного из приступов я узнал от санитара, что Перекоп взят красными. Надеяться на пощаду со стороны советской власти я ни в какой степени не мог: кроме меня, в белой Армии служило еще четыре моих брата – младший из них, как оказалось впоследствии был убит в бою с красными под Ореховом, в июле 1920 г., второй пал в бою под ст. Ягорлыцкой, в феврале 1920 г., двое старших были расстреляны в Симферополе, в ноябре 1920 г. Идти пешком к югу, совершенно больной, я не мог: лазарет в целом, почему-то эвакуирован не был.
Ожидалась отправка последнего поезда на Симферополь. С помощью санитаров я и мой сосед по палате сели в товарный вагон. Через два часа все станции к югу от Джанкоя были заняты советскими войсками. Поезд никуда не ушел. Нам посоветовали возможно скорее возвратиться в лазарет, где встреча с красными была бы все же безопаснее, чем в вагоне. Сосед идти без посторонней помощи не мог (раздробление кости в ноге), я буквально дополз с вокзала к лазарету – шагов четыреста всего. Посланные санитары в вагоне соседа моего не нашли. На следующее утро красные заняли Джанкой и разбили ему голову прикладом, предварительно раздев.
Первыми ворвались в Крым махновцы и буденовцы. Их отношение к пленным можно было назвать даже в некоторой степени гуманным. Больных и раненых они вовсе не трогали, английским обмундированием брезгали, достаточно получив его в результате раздевания пленных на самом фронте. Интересовались они только штатским платьем, деньгами, ценностями. Ворвавшаяся за ними красная пехота – босой, грязный сброд – оставляла пленным только нижнее белье, да и то не всегда. Хлынувший за большевистской пехотой большевистский тыл раздевал уже догола, не брезгая даже вшивой красноармейской гимнастеркой, только что милостиво брошенной нам сердобольным махновцем.
Приблизительно через неделю меня, вместе с другими еле державшимися на ногах людьми, отправили в комендатуру «на регистрацию». В комендантском дворе собралось несколько тысяч пленных в такой пропорции: четыре пятых служивших когда-нибудь в красных рядах, одна пятая – чисто-белых. Я принадлежал к последней категории, почему и был избит до крови каким-то матросом в николаевской шинели. Сперва нас думали опрашивать, но это затянулось бы на месяцы (тысячи пленных все прибывали с юга). В конце концов, составив сотни, нас погнали на север.
По серому больничному одеялу шагал крошечный Наполеон. Помню хорошо, вместо глаз у него были две желтые пуговицы, на треугольной шляпе красноармейская звезда, а в левой, крепко сжатой в кулак, руке виднелась медная проволока.
Наполеон шагал по одеялу и тянул за собой товарные вагоны – много, тысячи, миллионы буро-красных вагонов. Когда бесчисленные колеса подкатывались к краю кровати и свисали вниз дребезжащей гусеницей, Наполеон наматывал их на шею, как нитку алых бус и кричал, топая ногами в огромных галошах:
– Вы, батенька мой, опупели, вы совсем опупели…
Наполеон шагал по одеялу, звенел шпорами из папиросной бумаги, просачивался сквозь серую шерсть, таял, и из пыльной груды вагонов выползала Веста – охотничья собака старшего брата.
У Весты длинный язык, со скользкими пупырышками, пахнул снегом, водными лилиями и еще чем-то таким, от чего еще бессильнее становились мои руки под одеялом. Собака лизала мне подбородок, губы, нос, волосы, рвала подушку, лаяла…
Потом Веста рассыпалась рыжим дымом, таяла, и у кровати появлялось длинное белое пятно с красным крестом наверху. Пятно наклонялось надо мной, дыша йодом и выцветшими духами, жгло лоб мягкой ладонью, спрашивало:
– У вас большой жар, милый? Да?..
Так шли часы, дни. Может быть, было бы лучше, если бы очередной приступ обрезал их тонким горячим ножом. Не знаю. Может быть!
Когда пугливая неуверенная мысль, впервые после долгого бреда, промыла глаза и осеннее солнце запрыгало по палате, у дверей стоял санитар в черной шинели с коричневым обшлагом на рукаве и говорил дежурной сестре эти невероятно-глупые слова:
– Перекоп взят!
…Еще в конце, даже в начале сентября в северной Таврии наступили такие холода, что из озябших пальцев, выпадали поводья. Еще в сентябре, перебрасываемые с одного фронта на другой, мы жгли по пути костры, поднимали воротники шинелей и часто, чтобы согреться, вели коней в поводу. Теперь, в последних числах октября, вечер был необычайно свеж. Рельсы поблескивали не то росой, но то инеем. Наверху, в спутанном клубке холодных облаков, плыла совсем северная луна – бледно желтая, с затушёванными краями.
Джанкой – так похожий на еврейское местечко Юго-Западного края, не будь в нем чего-то татрского, – спал или притворялся, что спит, и в этом обычном для периода безвластия безмолвии было что-то зловещее, жуткое. То и дело, отдыхая у серых стен, я старался не уронить из памяти одного:
– Надо поскорей добраться до лазарета и сказать, чтобы за донцом послали санитара… Он лежит в том же вагоне… Ноги распухают, самому ему не подняться…
Но как вспомнить дорогу? Как мы шли тот раз? Я вглядывался в холодную темень – и ничего не видел и не понимал.
В глазах вертелись огненные колеса, редкие деревья, заборы, крыши сливались в серое пятно.
Когда я остановился на небольшой площадке, окруженной какими-то казенного типа сараями, и думал: теперь, кажется, направо… вон туда, где трава… – сзади показался разъезд из пяти человек. Кони осторожно ступали по сбитой мостовой, слышался говор. Я прильнул к стене, покрытой тенью колодца, – разъезд проехал мимо, потревожив влажную пыль. У переднего на длинном ремне болтался большой маузер, до бровей спустилась остроконечная шапка. Задний сказал, зевая:
– Никого тут уже нету, товарищи. Айда обратно! – и круто повернул вороного конька…
Только к ночи я попал, наконец, в лазарет и лег в свою кровать, охваченный шестым приступом. Парня с глуповатым, но ехидным лицом не было – он ушел «добывать» табак и сахар. За донцом послали другого санитара – он не нашел его. Отложили до утра.