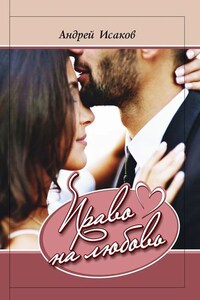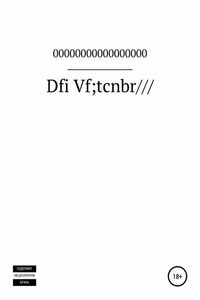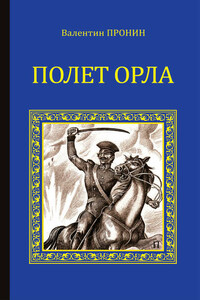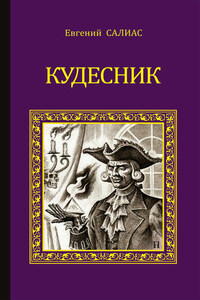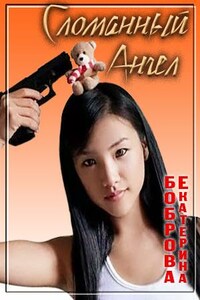Новый день начинается – брезжа и бредя;
с острой тенью воюет оконная ось.
На гербе здесь зачем-то рисуют медведя,
хотя мог бы, наверное, быть и лосось.
Продолжается день, тиражируя лица,
превращая пространство то в сцену, то в плац.
Здесь есть всё, как у всех; только эта столица
1 —
как и всё остальное – немного эрзац.
К ночи связан узор притупившейся спицей;
тощий сон мой еще до меня не добрёл.
…На гербе я зачем-то рисую жар-птицу —
там, где смотрит незряче двуглавый орел.
Ночь белыми снегами пролилась
как молоко из черного ковша.
На биржах ждут падения гроша,
в шестых палатах психи делят власть,
пять континентов продолжают плыть,
четыре колеса в грязи буксуют,
фокстрот три полуграции танцуют,
а птица-тройка встала ноги мыть.
Сидят за пузырём два капитана,
два берега пытаются сойтись…
А ты – один в утробе балагана,
Петрушка…
Да и к чёрту всё. Держись.
3
Необязательность дождя
и обязательность заката.
День закрывался, уходя,
кулисой с черною заплатой.
Пылал весь видимый театр,
и тихо громыхало где-то.
И ты был – мой неснятый кадр
и обязательность рассвета.
Необязательность вождя
и обязательность отката.
День закрывался, уходя,
конвертом с черною зарплатой.
Сенат чирикал, как щегол,
и Дума налагала вето;
и постаревший Чацкий шел
в свою облезшую карету.
4
О нем говорили, мол, горбатый уродец;
а что лоб высокий да глаза ясные —
так это еще больше раздражало народец
и красило лица и без того красные.
О нем говорили: дурак, мол, безумный;
а что видел он в каждой душе главное —
так это разыгрывалось на котурнах
и высмеивалось горожанами многославными.
Ему говорили: где ты – там и лихо;
а что он верными словами город спас —
так это не он, а Шут и Шутиха,
и с ними самонаводящийся правящий класс.
И он ушел серым днем в вечер белый,
и развязал незаметный всем узелок,
которым было стянуто его тело —
чтоб никто раньше времени догадаться не смог.
И – тугие! – вдруг вырвались крылья
из горбатой, битой камнями и взглядами спины;
И исчез он, блеснув серебристою пылью…
…Видно, так и надо народцу этой страны.
Только этот крылатый опять к ним вернется —
в сказке Гофмана, опере Глинки, цветке;
и ему возвращаться-рождаться, пока у народца
не появится мирт вместо смерти в руке.
5
Настроив все свои антенны
на внешний мир, который сед,
ты сам себе рисуешь сцены,
которых нет.
Увязнув в схемах и оценках,
которых – тьма, в которых – пшик,
перестаешь любить оттенки,
но любишь крик.
Не слышишь Мунка и Вивальди,
в которых – мир, который сед,
и бьёшь цитату, как пенальти,
в чужую сеть.
Колосса глиняные ноги
дрожат, но всё же топчут стих;
все строчки – в снах, все песни – в Боге,
который тих.
Среди философичных фальшей
молчат Брокгауз и Ефрон,
и что-то важное всё дальше,
и гаже трон.
Вдруг чуешь – словом ли, рукой ли,
звездой, нашитой на ночи, —
что сыграны и спеты роли,
что всё сказали толмачи,
что больше ни креста, ни стяга
над нами жизнь не вознесет,
что, натерпевшись, ест бумага
перо, что линию ведет,
что Гейне – гений не бесспорный,
что Марк Шагал, но не туда…
Не зря мироточат покорно
плоды науки и труда.
7
Она поёт дискантом, эта луна —
Господи, я это слышу.
Она продолжается, эта война,
и подступает всё ближе.
Пирует эрзац, удушающе сер —
Господи, я это вижу.
К чертовой матери музыку сфер —
нам бы чего пожиже.
Есть тысячи поводов радостно жить —
но, видно, не в нашем болоте,
где даже луна приспособилась выть
на злой и обманчивой ноте.
и не катится по накатанному
и не ездится по наезженному
расползается всё залатанное
и тоскуется по недонеженному
не летается по уже лётанному
не плывётся по уже плытому
свечи зажжены огнемётами
не живётся по уже житому
9
А жизнь опять меняет ценники.
За убежденья вновь сидят,
и сортовые шизофреники
твоей судьбой руководят.
Всегда беременна запретами,
власть, поощряя суррогат,
плюётся жёлтыми газетами
и собирает компромат.
Раскатаны законы траками,
и кто-то едет волчьей тьмой —
но не в такси, а автозаками,
и в КПЗ, а не домой.
Печально, но вряд ли кому нужна
твоя геометрия арлекина.
Многим бы пива да эрзац-кина,
а ты тут всерьёз со своим пианино.
Страна давно превратилась в Тролльхаузен —
такие же праздники и те же порядки.
Разобран на цитаты тот самый Мюнгхаузен,
но жизнь по-прежнему строго по разнарядке.
В деревнях, кроме старых подков
на счастье, счастья никто не видит.
В городах, кроме новых оков,
ничего не получит тот, кто выйдет.
И кривляется в нас вечное «бы»,
заднего ума кособокая сила.
Это – недовытравленные рабы.
…Тебе мама об этом не говорила?..
11
По белой дороге, похожей на ленту,
шагал человек, нарисованный кем-то.
Размахивал дудкой, похожей на флейту,
пел голосом, очень похожим на чей-то,
терялся в порталах, похожих на гейты,
и сам был похож на себя – хоть убей ты.
Встречал он печалей, похожих на радость,
случайностей, очень похожих на гадость,
зверей, так похожих на добрых людей,
людей, так похожих на злобных зверей.
Он видел любовь, что похожа на сказку,
Пегаса, впряженного в сани савраской…
И только война ни на что не похожа:
у ней безобразная сытая рожа,
дурными вестями стреляющий рот,
который всегда по-чиновьичьи врет.
Шагал человек от песков до причала;
от гор до полей его флейта звучала.
Хрипел флажолетом он ноту одну,
горюя, что мир так похож на войну.
12
Святая Мария
Святая Мария
Твоя благодать
Твои слезы святые
Дождями ручьями
Над миром над мором
Весною грачами
Над полем над бором
Зимой над крестами
Оливковой кущей
По осени стаей
Волковьей бегущей
А летом над дымом
Святилищ и войн
Мне даришь молитву
А я тебе вой
Каждый первый из нас – мыслитель,
эрудит и оригинал.
Наш распухший от дум числитель
знаменатель нести устал.
Извлекает ненужный корень
или в степень возводит пшик
и непонятый алкоголик,
и непуганый большевик.
По расчету, по цифре голой
в столбик загнан недлинный путь…
И увядший листок фиговый
прикрывает больную суть.
14
…Когда порвутся бусы наших лет,
рассыпавшись притёртыми годами,
сонатою окажется сонет,
и словом – струн прощальных флажолет;
и, в платьях с золотыми рукавами,
те, кто невидим раньше нами был,
вдруг явятся – над городом, над страхом:
– Любила ли? – Прощал ли? – Не любил?
И чин неважен твой, и вид, и пыл —
в зачёт лишь Свет в тебе;
всё остальное – прахом.
Всего лишь – провисшие провода,
всего лишь – солнце закатное.
Стоишь истуканом, и ни туда
не можешь идти, ни обратно.
И будто шагать уже ни к чему,
и будто воздух твой рвётся,
и будто уже никому, никому
обнять тебя не придётся.
И будто уже никого, никого