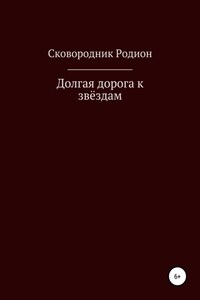В один из прекраснейших октябрьских дней 1857 года старая наемная карета тихо катилась, дребезжа стеклами, по шоссе, ведущему от Рима в Альбано.
На козлах возвышался веттурин с угрюмым лицом и громадными бакенбардами, по всем признакам отъявленный трус и сластолюбец; а в самой карете сидело трое русских «форестиера»: покойный живописец Иванов, В. П. Боткин[1] и я. Впрочем, название «форестиера» могло применяться только к Боткину и ко мне. Иванов – или, как его величали от трактира Falcone до Cafe Greco – il signor Alessandro[2] и по одежде и по привычкам давно стал коренным римлянином.
День стоял удивительный – и уже точно не доступный ни перу, ни кисти: известно, что ни один пейзажист, после Клод Лорреня, не мог справиться с римской природой; писатели оказались также несостоятельными (стоит лишь вспомнить «Рим» Гоголя и др.). А потому скажу только, что воздух был прозрачен и мягок, солнце сияло лучезарно, но не жгло, ветерок залетал в раскрытые окна кареты и ласкал наши, уже немолодые, физиономии – и мы ехали, окруженные каким-то праздничным, осенним блеском и с праздничным, тоже, пожалуй, осенним чувством на душе.
Мы накануне, вместе с Ивановым, ходили в Ватикан; он был в ударе, не дичился и не ёжился, говорил охотно и много. Он говорил нам о различных школах итальянской живописи, которую изучил подробно и добросовестно; все его суждения были дельны и проникнуты уважением к «старым мастерам». Перед Рафаэлем он благоговел. Известно, что на Иванова некогда имел сильное влияние Овербек: он уяснил ему Рафаэля; но когда Овербек пошел дальше, к Перуджино и его предшественникам, Иванов остановился; русский здравый смысл удержал его на пороге того искусственного, аскетического, символического мира, в котором потонул германский художник; зато идеалист Иванов остался навсегда в глазах Овербека грубым реалистом. Иванов глубоко сожалел о современном направлении наших художников (один из них при мне величал Рафаэля бездарным) и рассказывал нам кое-что о Брюллове и о Гоголе, которого называл постоянно Николаем Васильичем. Из его почтительных, но осторожных отзывов о нашем великом писателе можно было заключить, что он особенно хорошо изучил его. Гоголь нисколько не понимал Иванова, хотя превозносил его «Явление Христа»; ведь тот же Гоголь приходил в восторг от «Последнего дня Помпеи»; а любить эти две картины в одно и то же время значит не понимать живописи. Иванов с особенным сочувствием упоминал о страшном впечатлении, произведенном на Гоголя всеобщим осуждением его «Переписки»; об этом, да еще о 1848 годе, Иванов говорил не иначе как с содроганием. Может быть, ему в голову приходило, что «вот и мою картину, пожалуй, так же разбранят», а в началах, которые чуть было, не восторжествовали в 1848 году, он почему-то видел конец и разорение всякого художества.
Речь зашла и об его картине. Мы ее тогда не видали, и он собирался отпереть свою студию дня на три, что он и исполнил несколько недель спустя. Он утверждал, что она еще далеко не кончена, и сообщил нам любопытные подробности о своей поездке в Германию, к одному известному ученому[3], воззрение которого совпадало с тем, что он, Иванов, хотел выразить в своей картине. Он намеревался пригласить этого ученого в Рим для того, чтоб тот решил, точно ли соответствует картина вышесказанному воззрению.
По словам Иванова, Штраус, вероятно, принял его за сумасшедшего, тем более что разговор происходил со стороны Штрауса на латинском, а со стороны Иванова на итальянском языке, так как Иванов не понимал по-немецки; должно притом заметить, что Иванов плохо понимал по-латыни, а Штраус – по-итальянски. Живо помню я наивное, почти трогательное удивление Иванова, когда мы с Боткиным начали объяснять ему, что если бы даже Штраус согласился приехать в Рим, или, точнее, если бы ему позволили туда приехать, все-таки бы он не мог решить, достиг ли Иванов своей цели и передал ли его образ мыслей, потому что для этого еще нужно было особенное понимание живописи, которым Штраус едва ли обладал. Он мог не узнать воплощение своего собственного воззрения или, наоборот, увидеть это воплощение там, где его не было.
– Так-с, так-с, – повторил Иванов, добродушно осклабляясь, пришепетывая и мигая. – Это очень интересно-с (любимое его словцо). Этого мне в голову не приходило-с.
Долгое разобщение с людьми, уединенное житье с самим собою, с одной и той же, постоянной, неизменной мыслью, наложило на Иванова особую печать; в нем было что-то мистическое и детское, мудрое и забавное, всё в одно и то же время; что-то чистое, искреннее и скрытное, даже хитрое. С первого взгляда всё существо его казалось проникнуто какою-то недоверчивостью, какою-то то суровой, то заискивающей робостью; но когда он привыкал к вам, а это происходило довольно скоро, – его мягкая душа так и раскрывалась. Он внезапно хохотал от самой обыкновенной остроты, удивлялся до онемения самым общепринятым положениям, пугался каждого немного резкого слова (помнится, однажды он даже подпрыгнул, услышав от одного из нас, что такая-то известная русская писательница – глупа) – и вдруг произносил слова, исполненные правды и зрелости, слова, свидетельствовавшие об упорной работе ума замечательного. К сожалению, воспитание получил он слишком поверхностное, как бо́льшая часть наших художников.
Усидчивым трудом он старался восполнить этот недостаток. Древний мир ему был хорошо знаком, он изучил ассирийские древности (они были ему нужны для его будущих картин); библию, и в особенности евангелие, он знал от слова до слова. Он охотнее слушал, чем говорил, и, несмотря на всё это, беседовать с ним было истинным наслаждением: столько было в нем добросовестного и честного желания истины. На наши вечеринки он приходил всегда первый и, как только завязывался спор, с напряженным и терпеливым вниманием следил за развитием мысли каждого. В числе русских, живших тогда в Риме, находился один добрый и неглупый малый, но с потемками в голове и со спутанным языком; Иванов позже всех нас махнул на него рукой. Литература и политика его не занимали: он интересовался вопросами, касавшимися до искусства, до морали, до философии. Однажды кто-то принес к нему тетрадку удачных карикатур; Иванов долго их рассматривал – и, вдруг подняв голову, промолвил: «Христос никогда не смеялся». Его везде принимали с радостью; один вид его лица с широким белым лбом, усталыми добрыми глазами, нежными, как у ребенка, щеками, заостренным носом и забавно сложенным, с приятным ртом – вызывал невольное сочувствие и привет в сердце каждого. Роста он был небольшого, приземист, плечист; вся его фигура – от бородки клинушком до пухлых, короткопалых ручек и проворных ножек с толстыми икрами – дышала Русью, и ходил он русской походкой. Он не был самолюбив, но о своем труде имел высокое понятие: недаром же он положил в него все свои силы и надежды.