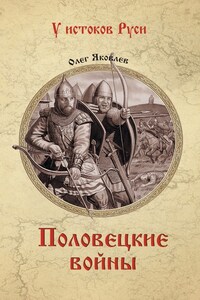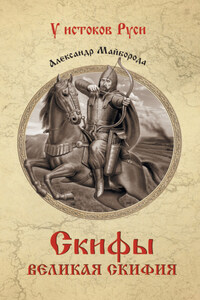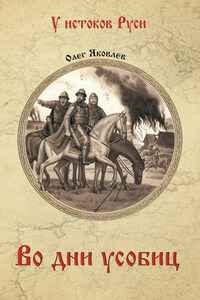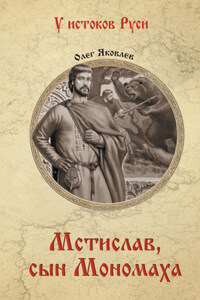13 апреля 1093 года в своём киевском дворце тихо преставился[1] великий князь Всеволод Ярославич. При жизни расчётливый и властолюбивый, хладнокровный и твёрдый, где надо, решительный и смелый, он крепко держал в узде непокорных родичей. Его боялись, опасались, перед ним склоняли гордые головы, а те, что продолжали упорствовать и измышлять свои козни, получали в ответ предательский удар меча исподтишка, как Ярополк Волынский, или на долгие годы, подобно смутьяну Олегу, оказывались оторванными от родовых вотчин. Не было за четырнадцать с половиной лет княжения Всеволода на Русской земле покоя, но не было и опустошительных кровавых войн и нашествий; пресекались великие и малые крамолы удельных князей и бояр, в ход шли посулы, угрозы, звенело золото, реже – булатный меч; так или иначе, а младшие были послушны старшим.
Но время – безжалостный творец и разрушитель – сделало своё дело: одряхлел Всеволод телом и душой, превратился с годами в злобного мрачного старика, тяжкое бремя кровавых деяний прошлого нависало над ним, давило, сковывало волю и разум. И с горечью осознавал князь: нет, не достиг он того, о чём мечтал с отрочества и до седин, не стал великим, таким, какими были покойные отец и дед; мелкие заботы поглотили его, закружили в неистовый водоворот круто меняющихся событий, и вышел он из этого водоворота неприятным, шаркающим ногами старикашкой с тяжёлым ворохом преступлений на плечах. Умер Всеволод, как и жил, с виду тихо и спокойно, только внутри его всё до последнего часа бурлило, становилось страшно, жутко, и тщетно старался он успокоить свою совесть, доказывая словно бы и себе, и Богу на небеси, что творил-де лихие дела не корысти ради, но только для блага Русской земли.
Как расценил Всевышний предсмертное раскаяние великого князя, не дано ведать нам, грешным и хýдым, а потому рассказ свой поведём мы о вещах попроще – о привычной каждому юдоли[2] земной.
Всеволод мыслил передать киевский стол своему старшему сыну, прославленному далеко за пределами Руси полководцу Владимиру Мономаху. Но не любили Всеволодова сына в Киеве, многие бояре боялись его твёрдой сильной руки, больше по душе был им княживший в окружённом болотами Турове[3] слабовольный, корыстолюбивый и лицемерный Святополк, сын старшего Всеволодова брата – Изяслава. На стороне Святополка был и Ярославов ряд[4] – лествица, был он старше Владимира и годами, и отец его раньше Владимирова отца занимал великий стол.
Мономах – умный, рассудительный – всё понял и, не желая котор[5] и кровопролития, уступил.
В день 24 апреля Святополк торжественно въехал в Киев через Золотые ворота.
Вскоре прибыли в стольный град послы от левобережных половцев[6]. Стояли в горнице перед Святополком – гордые, непреклонные, требовали мира и требовали дани за этот хрупкий, часто нарушаемый ими же самими мир. Вспоминали покойного князя Всеволода, как уговаривался он с также умершим уже ханом Осулуком, как дарил хану и его ближникам ткани, золото, меха, драгоценное оружие.
Святополк молчал. Кусал уста, косился на надменных, осознающих свою силу послов в мохнатых шапках и кожухах, сжимал в бессильном бешенстве кулаки, вспоминал свои сокровища, скопленные за годы новгородского княжения и обретённые уже здесь, на киевском столе, с досадой и ненавистью представлял себе, как текут ручьи прохладного серебра и слепящего взор злата в грубые мозолистые длани кочевников.
После прорвался к князю Иванко Козарин, подходили другие бояре, говорили негромко, вкрадчиво:
– Не плати. Собери дружину, пойди на поганых[7] ратью. Побьёшь их, добудешь славу, золото, возьмёшь большой полон[8]. Великие прибытки получишь.
Напрасно старый воевода Ян Вышатич советовал Святополку отступиться, принять предложение степняков, напрасно убеждал, что не восемь сотен туровцев, какие были у великого князя под рукой, но тысячи воинов нужны, чтоб одолеть силу половцев. Не хотел Святополк отдавать своё, не хотел уступать даже в малом, повелел он бросить послов в темницу и готовить рати. Наступали на Руси новые, тяжкие и жестокие времена.
Быстрым намётом неслись по приднепровским кручам резвые скакуны. Развевались на ветру гривы, свистел в ушах холодный ветер. Небо было ясным, чистым, зеленели травы на прибрежных лугах. Внизу клокотал вспученный, напоённый талыми водами мутный Днепр.
Весна в тот год случилась поздняя, ещё совсем недавно снежинки кружились в воздухе над могучей рекой, и хотя к маю на юге Руси уже, как правило, заканчивалось половодье, нынче всё Божьим промыслом задержалось, словно показывая людям, предупреждая их, что наступают лихие времена.
Это чувствовал, наверное, острее других князь Владимир Мономах. Вонзая бодни[9] в бока широкогрудого вороного, нёсся он из Чернигова в стольный Киев во главе небольшого отряда верной дружины.
Колыхалось на ветру небесно-голубое корзно[10], позвякивали кольца бармицы[11], прикреплённой к остроконечному шелому. Брони Мономах приказал воздеть ещё перед отъездом из Чернигова – опасался он внезапного нападения какого-нибудь половецкого ертаула[12]. Да и воистину, кроме поганых, хватало у князя на Руси недругов.
Владимир старался отвлечься, не думать о последних событиях, но нет-нет да и овладевал им тяжкий гнев. Возмущали, прямо-таки в ярость ввергали безрассудство и жадность новоиспечённого киевского владетеля. Неужели не понимал Святополк, сколь сильны сейчас половцы, сколь много воинов нужно, чтобы справиться с ними в бою?! На Руси же в последние годы царили неурожаи, бескормица, и сил ратных в Киеве и других южных городах для большой войны явно не хватало.
Сколько раз он, Владимир Мономах, одолевал этот ставший знакомым до мелочей путь между Черниговом и Киевом? Не перечесть. Вон за тем поворотом выступает из-за холма небольшая рыбачья деревушка, вон огромная разлапистая сосна на пригорке широко разбросала в стороны могучие стволы, вон тихая заводь на Днепре, испещрённая челнами. Скоро уже покажутся впереди на круче дубовые стены и стрельницы[13] Вышгорода[14], а там уже и до стольного недалече.
Щебетали птицы в дубравах, на полях синели васильки, желтели цветки одуванчиков, зеленели травы. Вроде всё как обычно, но менялась, чуял сорокалетний князь, жизнь, наступало время войн, потрясений, усобиц. Словно со смертью отца, Всеволода, последнего из сынов Великого Ярослава[15], что-то на Руси надломилось, словно порвалась некая тугая нить, доселе держащая города, сёла, земли в единстве. На душе царили печаль и тревога.