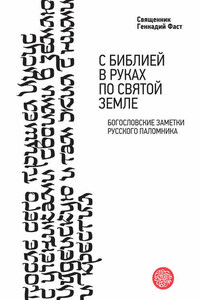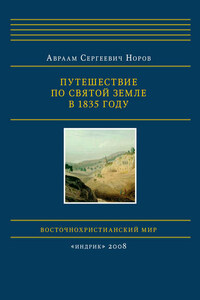Аще забуду тебе, Иерусалиме,
забвена буди десница моя.
Пс.136, ст.5
Лететь в Израиль – летом! С ума ты сошла, что ли? Тепловой удар, инфаркт, инсульт – все вместе обеспечено! Так напутствовали меня абсолютно все знакомые, но я, с юности отягощенная самолётофобией, не очень об этом думала – верней, думала, но так: «Тепловой удар у меня будет только в том случае, если самолет не разобьется».
И он не разбился. Шасси мягко коснулось посадочной полосы, грянули аплодисменты, на сей раз предназначенные не мне, а русскому экипажу, и я стала готовиться к худшему. Едва ли не зажмурившись, шагнула в не по-русски ярким солнцем озаренный проем на трап и – … ничего страшного не произошло. Ну, жарко. В Петербурге бывает и хуже. Здесь же «раскаленное дыхание пустыни», на расстоянии представляемое как отголосок адского пекла, высушивает воздух и делает жару вполне переносимой…
Значит, я все-таки здесь. Впервые здесь – свободная, счастливая, трепетно несущая осознание осуществляющейся мечты.
Вопреки ожиданиям, совершенно необременительный паспортный контроль – и вот мы уже включаем кондиционеры в огромном серебристом автобусе, и он мягко, как птица с гнезда, снимается с места. Не мешало бы выкупаться с дороги, да и купальники уж наготове, ан нет – рейс наш опоздал на четыре часа – ужас! – отстали от программы! – так что:
«Вот это вот, братья и сестры, такое большое и ярко-синее, которое вы видите справа, – так это – Средиземное море. Запомнили? Но мы с вами тут не остановимся, мы на полной скорости мчимся в Яффо, в гробницу Святой Тавифы».
С гидом нам, определенно повезло. Гид, он же духовник группы, иеромонах о. Алипий, кажется, знает о Святой Земле все – и не только о Святой Земле целиком, но и о каждом ее листике или камешке на Фаворе.
А сам он не ведает ни жажды (ни разу не видела, чтобы он «прикладывался к бутылке», как все мы – раз в три минуты), ни голода (есть-то он ел, конечно, вместе с нами, но мгновенно и без гурманства), ни усталости (неутомимый пешеход и рассказчик, всегда был полон сил и энтузиазма и вечно соблазнял нас чем-то совершенно обязательным для поклонения, но очень далеким, в ту пору, когда самые выносливые из нас начинали по пути садиться куда попало). Веселый и говорливый хохол, упорно и без насмешки называвший нас, русских, «великороссами», он то заставлял весь автобус плакать от смеха, отпустив специфическую православную шуточку, то вдруг оборачивался строгим духовником, вынуждая нас, вполне расслабившихся от его демократического обращения, прикусить язык во время исповеди…
Гробницу Святой Тавифы в монастыре Апостола Петра я запомнила смутно, как и сам монастырь.
Сердце рвалось в Иерусалим – дивную настоящую родину каждого христианина… Вечера в Святой Земле не бывает: краткие минуты невнятных сумерек – и чернильная ночь плотным покрывалом почти мгновенно падает на землю сверху. В этой ночи мы и подъехали к Иерусалиму, разместились кое-как в гостинице, от усталости уже не ропща на сверхмалые размеры номеров, и, накормленные, были распущены о. Алипием на отдых до утра. Но… Спать?! Сейчас?! Когда вся душа переворачивается от долгожданного свидания с местом, определенно, стоящим на полпути к горнему миру?!
Первая вцепляюсь в подрясник о. Алипия, за мной – несколько столь же чувствительных паломников:
«Батюшка! – Христом Богом! – Идемте сейчас – туда! – Потому что если вы с нами в город – не пойдете – то мы одни сбежим! – и если мы там, в ночи, – сгинем – то вас – замучит совесть!». Добрый хохол смеется, просит себе хоть полчаса на роздых – и в полночь все-таки ведет нас на ночную «экскурсию» по Иерусалиму. Из той экскурсии я не помню ровно ничего, кроме горчичного дерева – того самого, у которого зерно меньше всех зерен на свете – но не это было важно, а: я – здесь. Вот этими ногами да по этим камням… И голова кружилась от восторга – ведь каждый побывавший здесь скажет: самый воздух Иерусалима пьянит даже не голову, а душу…
Утром, когда мы собрались уже всей группой у гостиницы для пешеходного паломничества, ночная прогулка аукнулась земным: те самые ноги, которые да по тем самым камням – до утра отдохнуть не успели, а, наоборот, распухли, в туфли не лезли, и я сразу ощутила себя Русалочкой, жертвенно шагающей по ножам – и это ощущение во Святой Земле меня так больше и не покинуло. При почти полной невосприимчивости к запредельной усталости и постоянной бессоннице остального тела, ступни огнем горели всегда – часто до того, что губу приходилось до крови прикусывать. «Ничего-ничего, – справедливо утешил меня кто-то из группы. – Здесь у каждого – свое искушение…».
Итак, Долина Иосафата. С двенадцати лет, когда я выучила, помнится, наизусть «Поэму без героя», эти слова звучали для меня только в контексте
С той, какою была когда–то
………………………………
До Долины Иосафата
Снова встретиться не хочу…
Предположить, что я здесь сама себя встречу, и не так уж и нескоро, я тогда даже в шутку не смогла бы. Это вот отсюда начнется воскресение мертвых, о котором каждый раз в Символе Веры мы дерзновенно произносим «Чаю!» – а теперь все очень мирно: много-много белых-белых могилок под ослепительным солнцем – и шумит средь них поток Кедрон… Самым старым захоронениям по три с половиной тысячи лет, но при этом надписи на надгробиях, говорят, вполне читабельные.
Кстати, о потоке Кедроне. Это только название очень романтичное, а на деле – так это сточная канава. Именно туда с древнейших времен и по сейчас безо всякой фильтрации сливаются нечистоты со всего Израиля – и стремится сей поток непосредственно в воспетое «целебное» Мертвое море. «Кто хочет так исцелиться, – вроде бы и без тени шутки советует о. Алипий, – зачем ехать в такую даль? Достаточно просто взять ночной горшок любого еврея и обмазаться его содержимым». После этой небрежной фразы бесконечные просьбы «завернуть по дороге куда-нибудь и к Мертвому морю на пару часиков» прекращаются насовсем. А мне и с самого начала совершенно не хотелось оскверняться грязью с того места, где стояли Содом и Гоморра, той грязью, что на тысячелетия впитала в себя самый омерзительный из грехов…
По дороге в Гефсиманию заходим в русский монастырь Св. Марии Магдалины – поклониться мощам Св. мучениц княгини Елисаветы и ее келейницы преподобномученицы Варвары, живыми сброшенными большевиками в шахту под Алапаевском. Мощи сохранились нетленными, лежат во весь рост, все видно под тонким покрывалом: ножки, ручки, носик, который во время истязаний Елизавете Федоровне сломали прикладом – но верный духовник вправил на мертвом лице… Первое впечатление: «Господи, какие же они были маленькие обе! Понятно, что плоть усохла – но не так же! Как можно было – здоровым мужикам! – ненавидеть таких